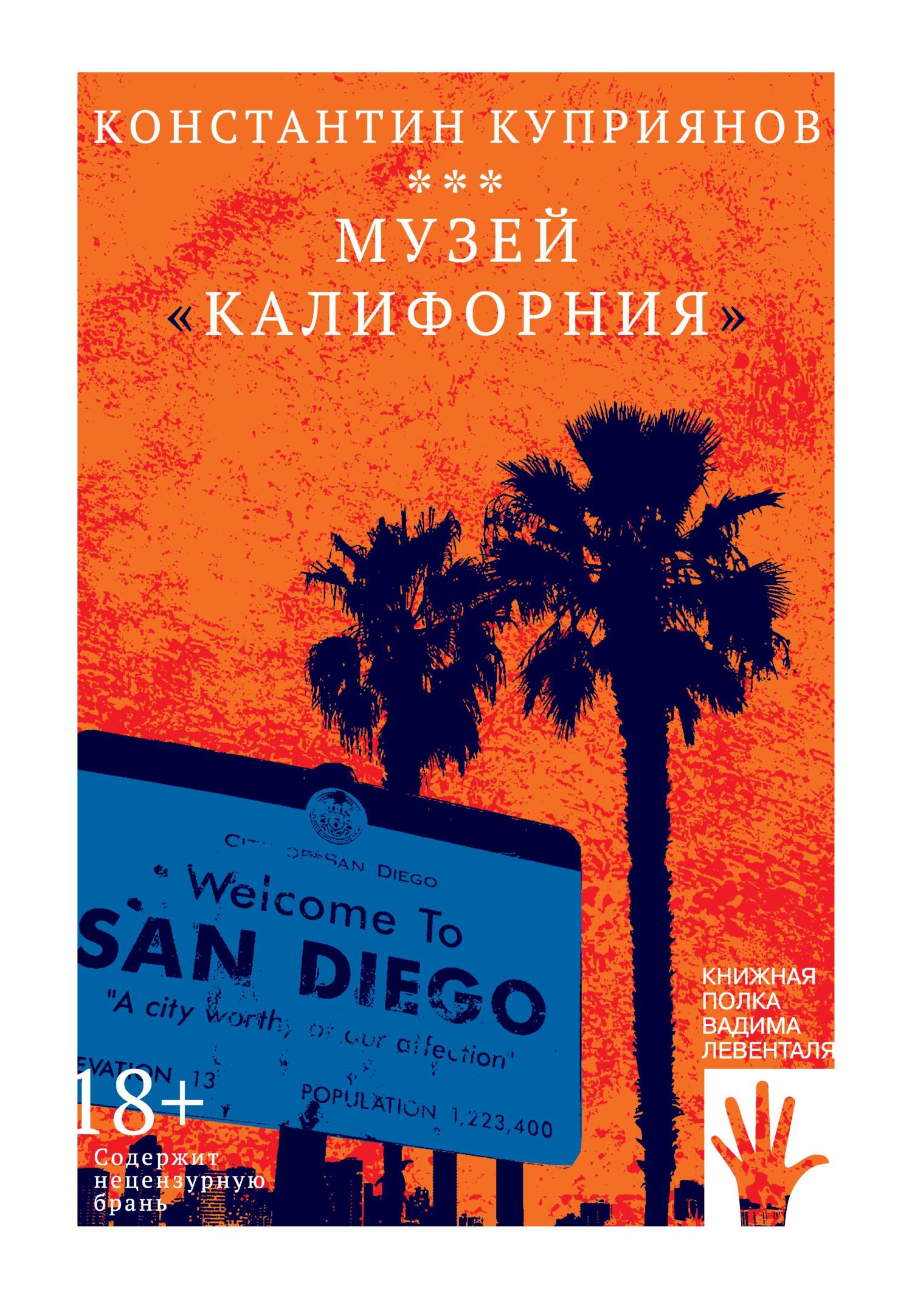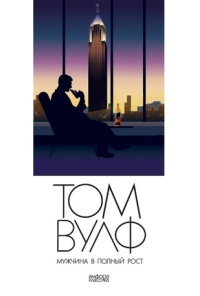стекла шевелится, словно это вовсе не стол.
— Что ты делаешь? — спрашивает бабушка, неожиданно очутившаяся рядом.
Марина не слышала ни шагов, ни скрипа ключа в двери. От бабушки пахнет улицей.
— Я сказала, чтобы ты сидела и ждала, но не имела в виду, что нельзя вставать со стула. В магазине не оказалось того, что мне было нужно. Пришлось ехать на троллейбусе. Но на обратном пути он сломался.
Марина пристально вглядывается в лицо бабушки, окутанное пылью и светом.
— Ну ладно, ладно. Ты, верно, проголодалась. Ц-ц-ц, подумать только, все это время просидела на одном месте! О чем ты думала?
Марина замечает стакан с водой, тянется к нему и делает глоток. Без слов. Бабушка вернулась, и долгие минуты, сотканные из тишины, миновали.
Я смотрю на эту маленькую темноволосую темноглазую девочку и думаю: «Браво».
17
Элайас знала, что голос — чуть ли не главное ее достояние. Именно голос убеждал учителей, что она не лжет. Успокаивал мать, когда та что-то подозревала. Голос был ее орудием, ее инструментом, когда она пела, вела эфир, разговаривала с любовниками. Ежедневными упражнениями Элайас поддерживала его гибкость. Занятия с преподавателем помогли ей избавиться от французского акцента, сделав голос полностью доступным любому американскому уху. Ныне же целью уроков вокала являлось поддержание долголетия: необходимо было позаботиться о том, чтобы Элайас не перенапрягала голос и не вырабатывала привычки, которые могли сократить срок ее сценической и медийной жизни.
Микрофон был ее призванием. В тиши звукозаписывающей студии, под светом софитов на телеэкране или на сцене Элайас испытывала физически осязаемые противоречия между сознанием, ртом и телом. И зачастую уходила домой, ощущая капли пота, высыхающие на коже между лопатками. Арнольд Кибл придал ей энергии.
Чернокожая женщина, получившая мусульманское воспитание в Париже, Элайас рано усвоила, как опасно противостоять мужчинам. Она была слишком высокая, слишком непокорная. Это не пошло ей на пользу. Но, оказавшись по программе международного обмена студенткой Нью-Йоркского университета, затем стажеркой, поработав на различных радио- и телевизионных каналах, девушка выяснила, что может вить из мужчин веревки. Кибл был бесцеремонен, высокомерен, груб, даже когда они только познакомились. Однако этот красивый, известный своей безапелляционностью мужчина зачастую проявлял мудрость. Элайас обнаружила, что ее почти безотчетно тянет к Арнольду, хотя не распознала первых признаков влечения: постоянных переодеваний перед началом их совместной программы, периодической потери концентрации при подготовке к эфиру. Ее наконец осенило — в тот момент, когда она задержалась возле красного перца в магазине органических продуктов и представила за столом рядом с собой Арнольда. Это потому, что Кибл крут, сказала себе Элайас. Он самый крутой из всех, с кем она до сих пор работала.
На пробах, когда Элайас удивила его, заставив рассмеяться, Арнольд наконец сделался очаровательным. Он не ожидал, что его заставят взять соведущую. Зачем ему соведущая? Но при всей своей влиятельности Кибл был лишь обычной пешкой в рейтинговой игре. Когда Элайас начала, он снова засыпал ее вопросами. Но она держалась молодцом. Особенно на съемках телепрограмм. Мир искусства — это беспощадная и своекорыстная олигархия, где за все ниточки дергают несколько ключевых игроков. В Нью-Йорке одним из них был Кибл. Здесь значение имел любой, кто мог сделать тебя знаменитым. Гагосян, Цвирнер[13] — все хотели, чтобы Арнольд Кибл делал обзоры их выставок. Теперь они приглашали и ее. Серия телепередач должна была выйти в июне, и Элайас знала, что получилось хорошо. Будут еще приглашения. Рядом с ней Кибл может показаться староватым. При этой мысли она улыбнулась, но без ехидства. Ей всегда нравились мужчины постарше. Отцовский комплекс, без сомнения.
Но они были в прямом радиоэфире, и Кибл уже заканчивал вступление. Близилась ее очередь. Если Арнольд заметит рассеянность соведущей, то мигом вцепится гадюкой в ее беззащитную лодыжку.
— Цель Абрамович, — вещал он голосом, наводившим на мысль об английском университете с горгульями, — достичь, по ее словам, просветленного состояния — энергетического диалога с аудиторией. Что бы это ни значило. На этом перформансе Марина одета, даже если временами напоминает голого короля из сказки. А вообще — что за «энергетический диалог» такой? И она действительно собирается продержаться до конца мая?
— Сейчас, преодолев половину пути, — подхватила Элайас, — по-моему, Абрамович уже добилась необычайного успеха. Семидесятипятидневный марафон «В присутствии художника» станет самой продолжительной самостоятельной работой в карьере перформансистки. Она заявила, что не позволяет себе и помыслить о неудаче.
Кибл надел рубашку, которую, как было известно Элайас, жена подарила ему на день рождения, черные с проседью волосы слегка взъерошил с помощью какого-то воска. На часах было 19:37. Чай уже допит, губы пересохли. Пока Кибл говорил, Элайас отхлебнула воды из белого пластикового стаканчика. В стекле студии отражалось красное табло «Прямой эфир».
— Это попытка Абрамович в чем-то публично признаться, — сказал Кибл. — Так ли уж отличается ее перформанс от «Моей кровати» Трэйси Эмин[14]? Если она желает медитировать — ради бога, прекрасно. Если хочет целыми днями сидеть и размышлять о своей смертности, проблемах мира и том, что она делает, — отлично. Но зачем идти в музей и считать это искусством? Возможно, в каком-то смысле Абрамович демонстрирует нам, что такое смотреть на картину. Что ж, ладно. Но зачем портить все это своим оперным платьем? Шведской мебелью? От жестких, шокирующих, из ряда вон выходящих работ художница перешла к избыточной эмоциональности и платьям дивы.
Элайас разглядывала профиль Кибла: темные глаза, свирепые брови. Замечательные такие брови. И крупный, красивый нос.
— Эта работа, — возразила она, — демонстрирует нам как сумму всех тех компонентов, которые мы видим наверху, на ретроспективе, так и их эволюцию, превращение в нечто совсем иное. Она принадлежит данному времени, данному городу, данной художнице в данный период ее карьеры, и я полагаю, что больше мы ничего подобного не увидим.
Кибл опроверг ее доводы, пустившись в изложение своей любимой идеи о неспособности постмодернистского искусства вырваться за пределы теории и обрести реальное содержание.
Жена Кибла, Изобел, была красавицей. Элайас доводилось видеть ее на корпоративных приемах и открытиях галерей. Изобел понимала, что женщины зарятся на Арнольда, и не спускала с Элайас глаз. Это была царственная, холодная особа. Но ее холодность, думала Элайас, вероятно, отчасти обусловлена жизнью с Киблом. Он не из тех, с кем можно жить. Он пожирает доверие женщины. Детей у них не было.
Кибл обожал зарываться лицом между ног Элайас, обожал вот уже несколько месяцев. Элайас так и не поняла, кто из них не устоял — она или он. Просто знала, что однажды ночью