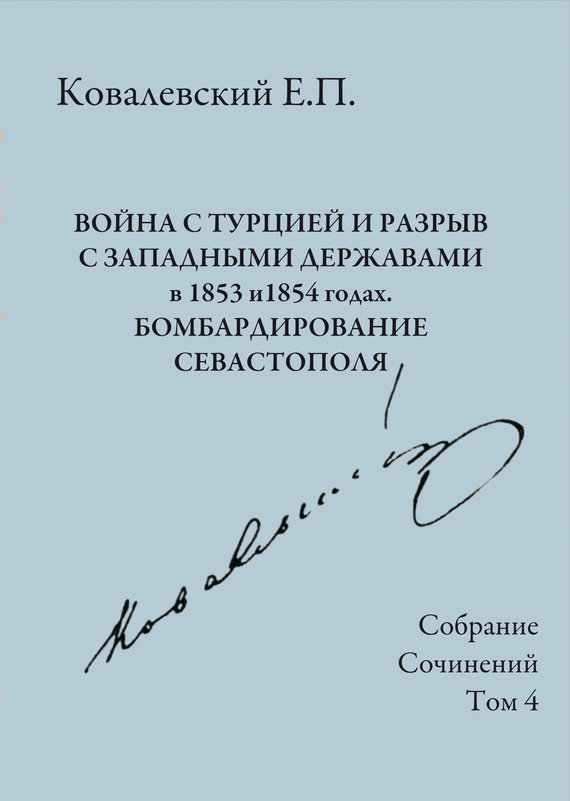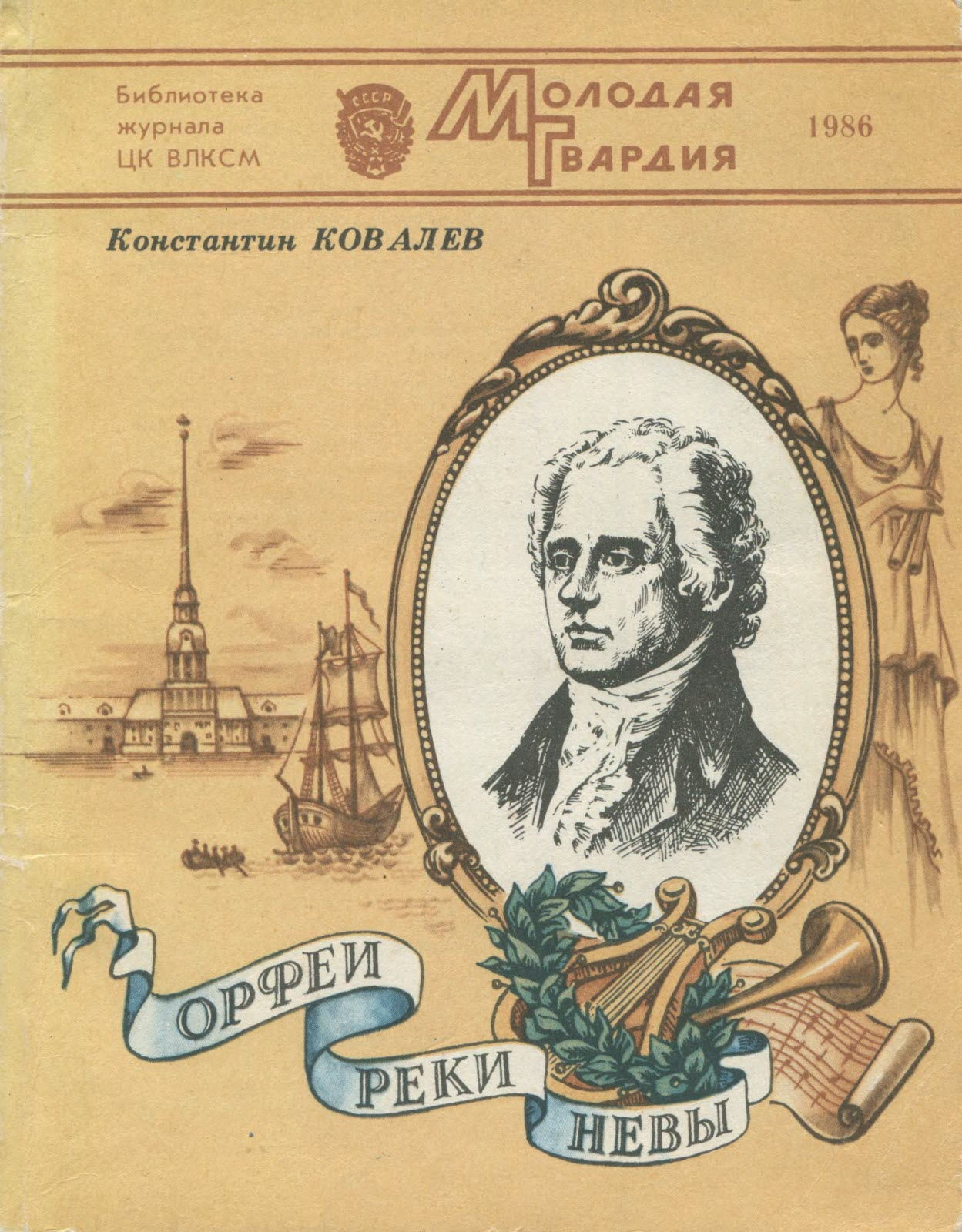нас не существовали[209], и еще воздвиг из мертвых скончавшегося в 1856 году графа Г. Г. Кушелева[210], считая его живым. Далее, граф Л. Н. Толстой в своем прелестном творении «Война и мир» заставляет в 1812 году являться становых приставов, учрежденных в 30-х годах. Г. Лесков в своих «Соборянах» заставляет карлика врать, называя князя Дмитрия Владимировича Голицына – Александром Николаевичем[211]. Наконец, И. П. Липранди в 1866 году в «Русском архиве» в пух и в прах разбил неотразимо-дельными фактами статью генерала Богдановича об одном из эпизодов нашей шведской последней войны, веденной графом Н. М. Каменским, приведя при этом множество доказательств, свидетельствовавших об ошибках, в какие впал наш новый военный историк[212]. Со всем тем, при всех этих ошибках, встречающихся и у наиболее знаменательных писателей и публицистов, ошибках, из которых иные гораздо покрупнее моих обмолвок, никто никогда не дозволит себе клеймить этих господ гнусным названием лжецов. И сколько, сколько, сколько независимо от этих немногих приведенных здесь примеров ежедневно встречается ошибок у всех пишущих и произведения пера своего печатающих, и каких крупных ошибок, гораздо покрупнее моих или вполне совпадающих с моими. И все это проходит без всяких замечаний со стороны журнальной критики.
Но что сказали б вы, друзья,
Когда бы сделал это я?..[213]
Четверги у Н. И. Греча
Не буду, да и не считаю уместным распространяться о Николае Ивановиче Грече как о грамматике, филологе, педагоге, литераторе и журналисте. Мне хочется поговорить о нем как о человеке и при этом рассказать разные подробности из петербургского общественного быта за 35–40 лет пред сим. Могу сказать о Грече то, что я успел вынести из многолетнего моего с ним знакомства, основанного преимущественно на отношениях и сношениях чисто журнальных, впрочем, довольно интимных, потому что в те времена все журнальные сотрудники были всегда близки к своему принципалу[214], а сотрудники Греча в особенности группировались более или менее тесно вокруг него и его семьи. Патриархальность эта была тогда в обыкновении даже в сношениях административных начальников с подчиненными. Так, бывало, ближайшие к какому-нибудь директору департамента чиновники зачастую обедали в кругу его семейства. Находясь в течение десяти почти лет в подобных патриархальных отношениях к Н. И. Гречу, я не мог не убедиться в том, что как хозяин дома он был очень радушен, хотя, впрочем, с примесью малой доли сарказма; как редактор – снисходителен к неопытной юности, однако работами ее умел мастерски и крайне дешево пользоваться; как светский человек – был почти всегда весел, любезен, приветлив с примесью свойственной ему насмешливости, легковерен и ветрен, почему часто рядом с добром, кому-нибудь оказанным, он делал безнамеренно тому же лицу зло, что мне привелось испытать впоследствии на самом себе. Со всем тем не могу не сказать, что лично я был Гречу многим обязан и находил всегда удовольствие в его оживленной и остроумной беседе, встречал же его и впоследствии, когда мы с ним почти раззнакомились, с чувством всегда более приятным, чем сколько-нибудь неприятным, хотя, правду сказать, покойнику кое за что и даже за очень многое я не мог быть благодарен, а потому и не сохранил к нему в позднейшее время того чувства признательности, которое я питал сначала за некоторые оказанные им мне в свое время услуги, как юноше без средств и протекции. Булгарин, это неизбежное зло в Гречевой жизни, это как бы ядро, таскаемое галерным каторжником (по выражению самого Н. И. Греча), был всегда и во всем причиною тех неприятных, неловких и даже дурных отношений, в какие, по обстоятельствам, становился со многими нередко Греч. Так было и в моих с ним сношениях, которые почти прекратились в начале сороковых годов, когда я, по роду принятых мною на себя тогда служебных занятий, должен был жить постоянно за городом, хотя и в близких от него окрестностях[215]. С тех пор я виделся с Н. И. Гречем довольно редко. Вследствие этого я могу говорить о покойном Николае Ивановиче и о среде, его окружавшей, лишь за тот период времени, с конца двадцатых до конца тридцатых годов, когда я бывал в доме его очень часто, по утрам в рабочем его кабинете, а по четвергам на тех вечерних сборищах, известных в ту пору в городе под названием Гречевых четвергов, которые были когда-то очень оживлены и на которых собиралась изрядная часть образованнейшего общества столицы. Эти четверговые сборища начали блекнуть с 1837 года, т. е. со смерти младшего сына Греча, даровитого и прекрасного во всех отношениях семнадцатилетнего юноши Николая Николаевича, студента Петербургского университета, которого я, как почти одногодку, очень, очень любил. Замечательно, что преждевременная смерть этого юноши, превосходно учившегося и обладавшего массою блестящих дарований, последовала одновременно, за несколько почти часов перед роковою дуэлью Пушкина. Умирающий Пушкин слабым, едва внятным голосом просил В. И. Даля передать Н. И. Гречу, что он вполне сочувствует его родительской горести и просит принять его скорбный привет по случаю этой ужасной, ни с чем не сравнимой потери[216].
Знал я Греча и его семейство с 1828 года, потому что еще тогда меня, почти ребенка, отрекомендовали ему как мальчика с какими-то будто бы литературными стремлениями, выражавшимися, правду сказать, исключительно самою изысканною фразеологией, впрочем, на чистейшем и безукоризненно правильном французском диалекте. Рекомендательницею моею была Мария Алексеевна Крыжановская, урожденная Перовская, в доме которой[217] я, – как говорилось тогда о молодых людях, вступавших в свет, – j’ai fait mes premières armes[218]. Считаю здесь лишним входить в подробности моих первых отношений к Гречу и распространяться о том, как я сначала занимался под его руководством бесчисленным множеством переводов с французского и составлением из каких-нибудь провинциальных писем маленьких статей для «Северной пчелы». Это ни для кого не интересно; скажу только, что Греч в доме Крыжановских был довольно близок по той причине, что его кузина, Марья Павловна Крыжановская (мать нынешнего оренбургского и уфимского генерал-губернатора), урожденная Безак, была замужем за братом Максима Константиновича Андреем Константиновичем[219] и находилась в дружбе со своею belle-soeur[220] Марьею Алексеевною, отличавшеюся в то время замечательною красотою и необычайною светскою любезностью, которые делали из нее обворожительную хозяйку, а дом ее одним из приятнейших петербургских салонов. Сама хозяйка, тогда еще не старая женщина и не озабоченная детьми, которых никогда не имела, вполне