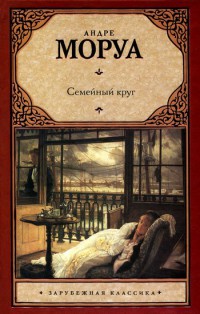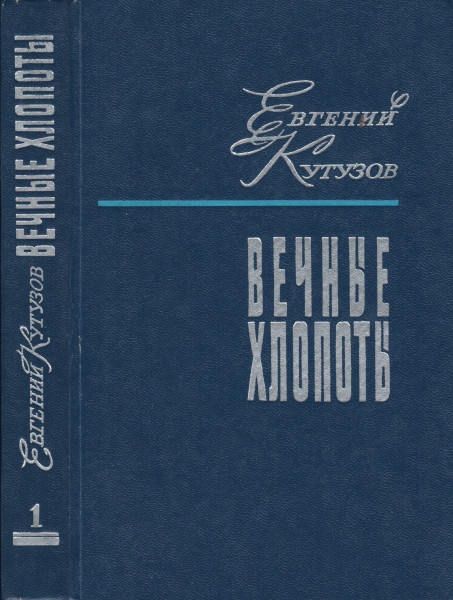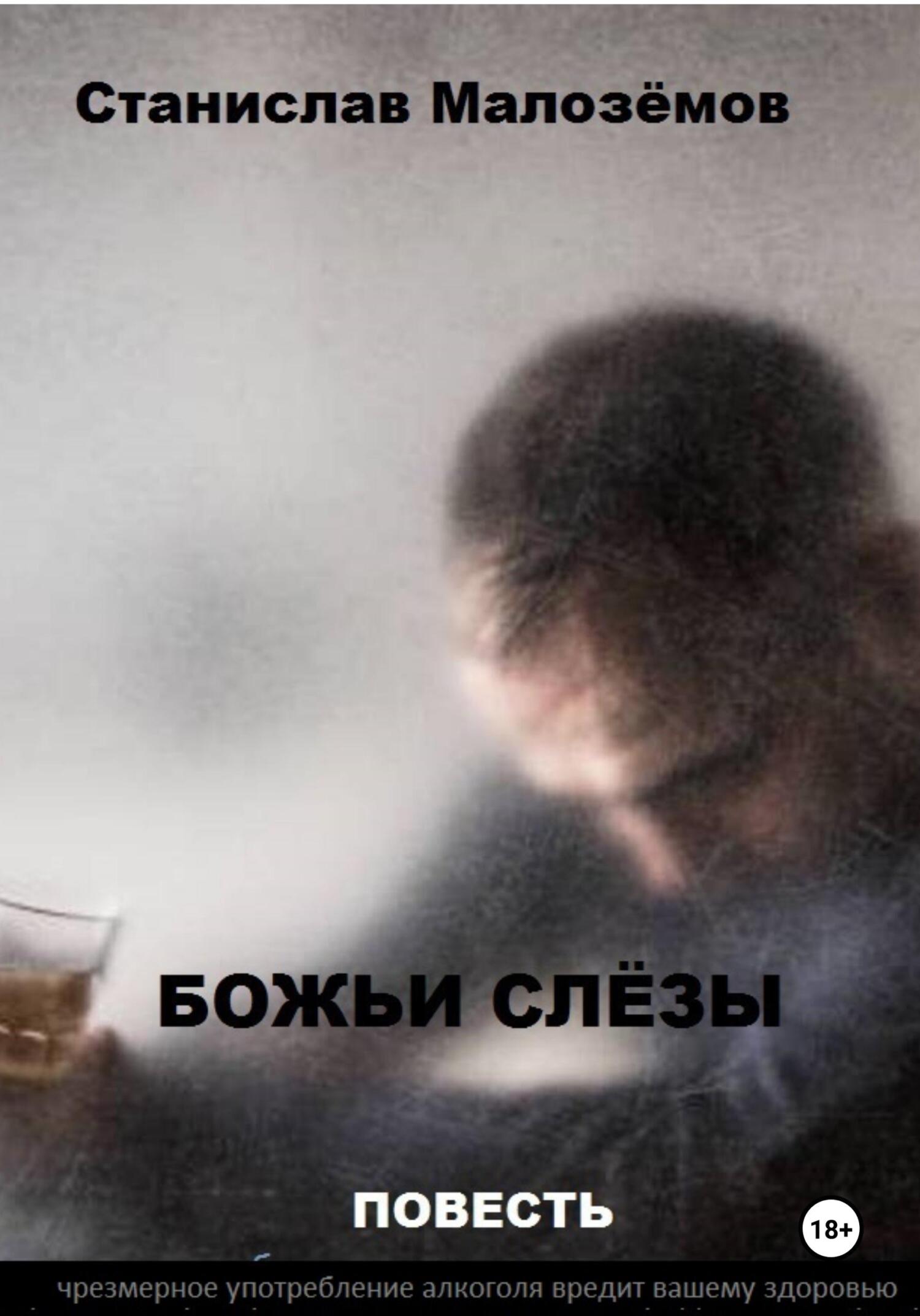приезжая на каникулы домой, всякий раз с удовольствием выходит на сенокос. Отец купил ей небольшую косу, и она, как умеет, косит.
Конечно, Насте не успеть за всеми, да она и не старается особенно. Амина идет, не отставая от Кугубая Орванче. Орлай Кости то и дело поправляет косу, что-то у него там не ладится. Дарья косит позади всех, обернувшись, она кричит:
— Настя, доченька, ноженьку не порежь, будь осторожнее…
— Нет, мама, не бойся.
— Ты не устала?
— Нет, не устала. Только вот коса почему-то носом в землю зарывается.
— Ну и оставь ее, иди пособирай лучше землянику.
— Где кружка?
— Поищи в пестере, я ее вместе с хлебом клала. Молоко не опрокинь.
— Пожалуй, схожу пособираю.
— Вот и хорошо. Наберешь ягод, поешь с хлебцем.
Хоть и стар Кугубай Орванче, но еще крепок. Косит будто играючи. Только невесел нынче старик, трубка в зубах зажата, но он не замечает, что она давно потухла.
Амина изо всех сил старается не отставать от Кугубая Орванче, не теряет его из виду. «Наверное, старик ругает нас кровопийцами, живем-де за чужой счет, — думает она. — Почему так получается, что он на нас работает Отец всегда его да Эбата нанимает. Эх, Эбат, Эбат… Иной раз послушаешь его — вроде дурака, а иной раз — очень даже умен. Язык его и довел до тюрьмы. Что же он, глупый, натворил? Только кто знает — глупый он или умный? Лишь бы Эман из-за него не попал в чижовку, ведь они дружат И Ардаш — хороший человек, если бы посватался, пожалуй, пошла бы за него… А как же Эман? Сама толком не пойму: люблю я этого дьявола или нет? В прошлый праздник опять задурил голову, говорить умеет так же, как и ее отец. Хорошо бы узнать, ходил он на свадьбу в Луй тогда без меня или нет?»
— Доченька, коса-то у тебя, видать, притупилась. Давай наточу.
Амина не заметила, как, занятая своими мыслями, далеко отстала от других. Видит: к ней идет Кугубай Орванче, улыбается. Отец тоже перестал косить и сурово посмотрел на нее.
Амина, смутившись, глубоко вздохнула и замахала косой.
Кугубай Орванче взял у нее косу и принялся точить.
— Вот и выросла ты, доченька. Работницей стала, а сердце у тебя доброе, не то что у твоего отца, — негромко говорил Кугубай Орванче. — Ты уж не обижайся на мои слова, я люблю говорить правду…
Амина потупилась, молча взяла наточенную косу и снова принялась косить.
Кугубай Орванче, глядя на нее, думал: «Такой хорошей девушки мне в снохи не заполучить. Мой Эман к Амине, небось, близко подойти боится. Ничего не поделаешь, бедный человек застенчив. Нет, лучше и в голове не держать породниться с Орлаем Кости».
— Давай коси! крикнул Орлай Кости. — Тут пора кончать, на другой участок переходить.
Кугубай Орванче неспеша взмахнул косой и пошел, оставляя за собой ровный широкий покос.
Наступило время отдыха. Сели под навесом, устроенном из оглобель телеги, поели толокна, потом стали пить чай. Настя насыпала на лопушок земляники и подала Кугубаю Орванче.
— На, дедушка, покушай.
— Чего тут, голубушка? A-а, земляника? Вот спасибо.
— Здесь, по краю, насобирала.
— В первый раз нынче ягоды брала, голубушка? — спросил старик.
— В первый.
— А сказала, как первую ягодку рвала: «Рот старый, еда новая, на другой год будь еще раньше»?
— Ой, забыла.
— Значит, на будущий год не уродится, — засмеялась Амина.
— Если бы урожай от наших слов зависел, хорошо было бы. Но ведь это не так! И в книгах пишут, что от суеверий никакого прока не жди, — возразила Настя.
— Правильно, дочка, — поддержал ее Кугубай Орванче, поглаживая свою бороду, — верь книге, а не марийскому поверью.
— И русские поверья не лучше, — вставил свое слово Орлай Кости. — Будешь по поверьям жить, скоро ноги протянешь.
— Не болтай пустое, — остановила его жена. — А то люди скажут еще, что ты и в бога не веруешь.
— Налей-ка еще чашечку, — попросил Кугубай Орванче Амину. — Я вот гляжу, все марийские суеверия — пустое дело, никогда не сбываются.
— Зачем же ты сам-то по ним живешь?
— Эх, брат Кости, куда уж мне менять жизнь на старости лет, доживу остаток лет, как привык.
— Зато у марийцев сказки хорошие, — сказала Настя.
— Верно, сказки хорошие, и загадки неплохие — не знаю, как у других народов. И поговорок правдивых у нас не мало. Вот, к примеру, про солнце загадка: «Выше леса, светлее света». Верно сказано? Очень даже верно! А как про огонь подмечено: если спросят: «Что ца свете мерить нельзя?», прямо отвечай: «Огонь!» Ведь его, действительно, мерить нельзя. Или вот загадка про воду: «Бежит вороной мерин, а оглобли не шевелятся». Понятно, что это — вода между берегов течет. Вот я вам загадаю, а вы отгадайте: «Один льет, другой пьет, третий растет». Что это такое?
— Дождь, земля и дерево, — сказала Настя. — Я эту загадку в прошлом году слышала.
— Правильно… Ну, хватит. Надо маленько вздремнуть.
— Не будет ли дождя? — Орлай Кости посмотрел на небо. — Может, начнем без отдыха?
— Дождя не будет, нужно обязательно отдохнуть. И скотине отдых нужен.
— Ну, ладно, полчаса.
— Вот и я об этом говорю.
В это самое время Эман на паре выезжал со станции.
Давеча, когда смотритель вписывал в книгу подорожную седока, Эман приметил его фамилию: Линов.
Линов направлялся в Изганы. Кони хорошие, бегут быстро, только искры, когда попадется на дороге камень, летят из-под копыт.
— Э-эп, яныка-ай! — покрикивает Эман на лошадей, поигрывая свернутым кнутом. Он сидит прямо, весело поглядывает по сторонам. Мальчишке, отворившему полевые ворота, крикнул:
— Молодец, братишка, вот тебе за труд! — и кинул ему горсть орехов.
Седок, привалившись к плетеной спинке тарантаса, казалось, не замечал ни раскинувшихся вокруг полей, ни поднимавшегося на горе леса, ни земли, ни неба: он ехал, о чем-то крепко задумавшись.
— Эх-эх, яныкай-ай! — покрикивал Эман и время от времени свистел.
— Перестань, надоел, — сказал седок по-русски.
Эман повернулся к нему и, глядя в глаза, ответил по-марийски:
— Господин, ямщику нельзя не понукать лошадей!
Седок сделал вид, что не понял, и промолчал. Он поправил кожаную подушку у себя за спиной и уселся поудобнее.
— Э-эх, яныка-ай! — Эман дернул вожжи, и лошади пошли рысью.
Дорога была пустынна. Только однажды попалась навстречу телега, в которой сидели мужик и три бабы с красными, заплывшими глазами: видать, трахомные. Встречные собирались уступить дорогу и очень удивились. что с дороги свернул тарантас с барином.
Линов думал: «Вот и этот мужик-мариец в свое «Э-эх» вкладывает и горе, и радость,