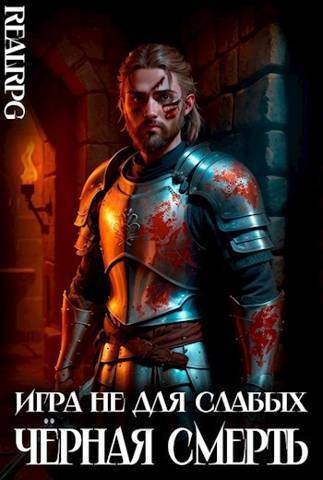опыт, вытащенные через много лет из письменного «стола» рукописи и потом изданные звучали не совсем так, как их задумали авторы. В «столах» происходила какая-то загадочная химически-дьявольская реакция: романы и повести выветривались, скукоживались и преждевременно старели. Аналогичная судьба ждала и художников, писавших «на антресоли». Честное слово. Я тому свидетель.
Книги нуждаются в читателях. Картины — в зрителях.
Прочла талантливый, хоть и чуть-чуть кокетливый роман Виктора Ерофеева «Хороший Сталин». Несколько раз автор повторяет: «Я убил своего отца», хотя тут же говорит, что отец жив и даже играет в теннис. Тем не менее, кажется, только в одном месте В. Ерофеев пишет: «Я политически убил отца». И еще: «Я совершил не физическое, а политическое убийство — по законам моей страны это была настоящая смерть».
Итак, В. Ерофеев убил отца, став одним из авторов альманаха «Метрополь» и не пожелав отречься от своего авторства.
Мой сын дважды политически убил отца, а заодно и меня. Дважды — сперва своим творчеством, приравненным к диссидентству, а во второй раз — своим отъездом в Америку.
Конечно, Ерофееву-отцу, крупному советскому чиновнику, мидовскому генералу, в свое время вхожему к самому Сталину, и отцу Алика Меламида судьба определила падать с разной высоты. Д.Е. Меламид, заведующий сектором в ИМЭМО (Институт мировой экономики и международных отношений), «упал» до профессора-консультанта (да и то лишь спустя несколько лет). А Ерофеев-рёге в самый разгар своей карьеры в ожидании нового назначения, заместителем министра иностранных дел, с большим скандалом лишился поста посла-представителя СССР при международных организациях в Вене.
Тем не менее мужу, на мой взгляд, после отъезда Алика было тяжелее, чем баловню судьбы Ерофееву-старшему.
Ничто так не изнуряет, не изничтожает, не ранит, не пригибает к земле, как чувство «изгойства». А мой муж переживал это чувство уже во второй раз. В годы борьбы с космополитизмом он вот-вот должен был потерять работу как еврей. И знал: его не спасут ни ум, ни безупречное чутье политолога, ни даже двуязычие (в СССР очень ценили, как теперь говорят, «носителей языка», а муж до 15 лет прожил в Германии с родителями и говорил одинаково хорошо и по-русски, и по-немецки).
Только после смерти Сталина он немного пришел в себя… И вот снова политическое изгойство. Муж был германистом, занимался Западной Германией. Там его знали, ценили. Став заложником сына-эмигранта, он автоматически превратился в «невыездного». Фактически это был «запрет на профессию», закон, принятый на территории послевоенной Западной Германии в отношении нацистов. Закон, который так клеймили и осуждали у нас в СССР.
Правда, Ерофеев-отец, как видно из книги Ерофеева-сына, лишился друзей, таких же представителей советской элиты, как он сам, друзей, с которыми играл в теннис на кортах в «Соснах» (в кремлевском санатории), постоянно встречался на приемах и общался домами.
Мы друзей не потеряли. Если быть точной, почти не потеряли.
Из книги В. Ерофеева было приятно узнать, что и среди крупных чиновников в брежневские времена были люди порядочные, выдержавшие все удары «инстанций». Мне кажется, что для человека его ранга Ерофеев-отец вел себя просто геройски. И книга «Хороший Сталин» — своего рода благодарность сына отцу, знак уважения за то, что тот сохранил лицо.
Мы такой благодарности от Алика не дождались. В нескольких интервью, которые до нас дошли, он говорил, что «родителей мой отъезд не затронул». Примерно так.
На самом деле только чудо и порядочность Н.Н. Иноземцева — директора института, где работал муж, — спасли нас от большой беды. Если бы мужа отправили на пенсию, мне работу никто не стал бы давать.
Формулировка «недавания» у меня звучит в ушах: «Людмила Борисовна, вы уже так много перевели. Зачем вам этот роман? Кстати, не такой уж он значительный (скоро роман выйдет в другом переводе). Вам надо передохнуть. И потом, вы должны дать дорогу молодым». Это я уже слышала в 1949 году, когда меня увольняли из Радиокомитета, только в несколько иной форме: говорили не «вы так много перевели», а «вы так много написали». Самое смешное, что слова «вы должны дать дорогу молодым» уже фигурировали, хотя мне исполнилось тогда всего 32 года. Кстати, столько же, сколько сыну в год эмиграции.
Да, мужа из ИМЭМО не уволили, а меня не лишили переводов. Но спустя всего два года Д.Е. заболел и болел до самой своей кончины в 1993 году. Не решаюсь сказать прямо, что первый инсульт был следствием разлуки с сыном и страха за свое будущее. Но как иначе объяснить, что Д.Е. так сразу рухнул?..
Хватит писать о разлуках, потерях, расставаниях. Ведь этот эпизод моей жизни я озаглавила «Первое свидание». Стало быть, о свидании и надо писать.
Опускаю на время всю авантюрно-криминальную сторону встречи с сыном, без которой она была бы немыслимой. Сразу беру быка за рога.
Итак, ГДР. 1987 год. Восточный Берлин. Я получила командировку в соцстрану. Я — гость Союза писателей ГДР. Мои «апартаменты» в доме гостиничного типа. Комната, туалет, кухонька. Завтрак положено готовить самой. Сижу на диване, поминутно глядя на часы. Потом хожу, опять же глядя на часы. Нервничаю. И вдруг слышу голоса. Дверь распахивается — сын входит в комнату. За ним на пороге маячит приятель, немец из Западного Берлина Бенгт, это он устроил нашу встречу. Сын с сильной проседью. Я всплакнула, говорю с упреком сквозь слезы: «Но ты же совсем седой». Сын смеется, целует меня.
— Мама, почему ты плачешь? Мы увиделись. А насчет седины — извини. 11е виноват. Ты сама говорила, что поседела рано… Вот и я…
Друг-немец, увидев мои слезы, исчез. Мавр сделал свое дело, мавр может уйти.
Перестала плакать. Секунда молчания. Потом сын заговорил.
— А знаешь, мама, я несколько дней назад прочел у нас (в США. — Л.Ч.) в газете, что найдены первые наброски набоковской «Лолиты». И, представляешь, гам фигурирует не девочка-нимфетка, а мальчик. А ведь дядя Набокова, брат матери, миллионер Рукавишников, был геем. Родителям Набокова, кажется, не очень нравилось, когда дядя сажал на колени их мальчика. Правда, интересно? Мама, почему ты хохочешь?..
Первое сообщение сына после десятилетней разлуки — о Набокове. Хотя мы оба отнюдь не набоковеды. С другой стороны, он умница. Как начать разговор о пережитом за десять лет, если ты жил в другой стране, с другими нравами, обычаями, с другой системой ценностей? Может, лучше притвориться, что мы продолжаем давнюю беседу?
И мы начинаем свой долгий-долгий разговор (Алик приезжал ко мне из Западного Берлина дней шесть подряд). Ходим по городу и говорим без умолку,