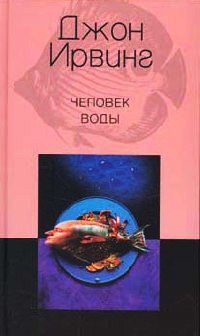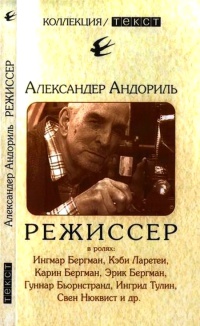103
Какое-то время я жил под впечатлением от этой статьи, и тюрьма превратилась в автоклав, где сырьем выступают люди. Возрастающее давление стен, чужих людей – и в итоге одни становятся алмазами, а другие говном.
Жить при помощи этих книг получалось не так, как при помощи желтой книги. Выходило коряво. Обычно я спрашивал у них о свободе, потому что в тюрьме все время думается о свободе, а спрашивать о свободе у тюремных книг – ответ всегда получится печальным.
Тюремные книги не годятся для таких вопросов. Они не о тюрьме, кроме «Архипелага ГУЛАГ», но от них веет тюрьмой, как от бывшего зэка. Негодные, испорченные книги. Ничего не оставалось, как написать свою.
Вариантов было два: либо своя, либо желтая. Но желтой больше не было. Все-таки я успел к ней привязаться. Наверное, потому, что она была первой и единственной в мой самый трудный час. Так же, как Большую Медведицу я считаю главным созвездием, потому что это первое созвездие, о котором я узнал в первую очередь.
Я тогда думал и сейчас думаю: что, если бы мент оставил другую, не желтую, книгу – зеленую, например? Стал бы террористом? Объявил бы джихад мусорам и конченым зэкам? А мог бы вообще остаться без книг. Что бы делал? Как бы жил?
Может быть, что-то придумал. Нашел бы что-нибудь. Стал бы Поклонником Библии или Адвокатом. Или Кобой. Вспоминал бы всех баб, которых имел, и рассказывал о броуновском движении. Или, как Крытник, выплавлял бусины из баклашек изо дня в день. Или застрял бы в своей голове, как матрешка в матрешке, или до изнеможения дрочил на червя. Но мне досталась желтая книга. Считаю, что мне повезло. Наверное, поэтому все случилось как случилось. Если бы не этот первый шмон, когда выбили все книги, все сложилось бы иначе. Кто знает? Не придумал бы написать свою книгу. Ведь начиная со шмона к этому шло и располагало, а теперь, кажется, что по-другому быть не могло.
104
Я назвал свою книгу «Инструкция освобождения». Живу в ней и сочиняю. Не сочиняю, она сама пишется. С этого момента не знаю, что будет дальше и в прошедшем времени писать больше не буду. Был превратится в есть, будто это кино и все снято на пленку. А в кино нет прошедшего времени, есть настоящее. Мысль неуловима. В тот момент, когда кажется, что поймал ее, она исчезла. Я расслабился и позволил жизни течь по-своему. Только смотрел и записывал, не пытаясь что-то поймать и запомнить.
Голова опустела. Там перестали плодиться новые персонажи и заполнять собой хату. Когда-нибудь кто-нибудь будет жить при помощи моей книги, как я жил при помощи желтой. Он будет пользоваться моими сравнениями. Для него они станут родными, но взятыми из чужой книги и связанные с кулинарией.
В тюрьме живу впроголодь, и все мои сравнения связаны с едой. Но я много читал и видел, что в других книгах то же самое. Это значит, что другие авторы тоже голодали. Так или иначе, но почти все сравнения во всех книгах, что мне попадались, связаны с едой. Например, книга вкусная, песня сладкая, воздух терпкий, рассвет багрово-яблочный, кровь как кетчуп, любовь изысканна на вкус и пьянит, как вино, правда – горькая, а ложь – сладкая. Пищевые сравнения самые точные и яркие, а все остальные сравнения по сравнению с пищевыми выглядят пресно. Все пробуется на вкус, будто других чувств не бывает или они бывают, но помогают пробовать на вкус.
105
Другие сравнения тоже существуют. Они идут не от желудка и точно не вкусны. Они другие, такие, что хочется плакать. Их не слышно и не видно, но они есть. Они не из слов и вовсе не сравнения. То, что они описывают, в сравнении не нуждается. Они ни на что не похожи. Одно лишь слово и не слово, а тишина, где все ясно без слов. Слова исказят и унизят, заведут в блуд и оболгут. Они заведомая ложь, потому что они – решетки, за которыми сидит правда. Где много слов, там ее не видно. Она зашторена ими, как жалюзи, только слабый свет просачивается сквозь них, и такого поэта, кто разглядел его, называют гением. Этот гений долго не живет, потому что он не гений, а всего лишь разглядел полоску света между прутьями. Он долго смотрел в одну точку, разглядел что-то необычное, отчего ему стало невыносимо грустно, но передать свою грусть-тоску он сумел только словами, и слова эти только сильней заделали щель, а другого способа он не знает. Он режет себе вены, принимает наркотики, пьет водку и прыгает с моста. В итоге умирает, захлебнувшись собственной рвотой в двадцать семь лет.
106
Изображать можно и без слов, став художником, и пытаться этот маленький свет рисовать. Но зная, что краски – это яичный белок, масло, желатин и мелко спрессованные кости древних животных и рыб, он обречен пользоваться жратвой. С ним происходит то же, что с поэтом, если он настоящий художник, конечно. Можно, как актер, изображать без слов и яичных белков. Он изображает животных и других людей, не являясь ни животными, ни другими людьми, но все они – художники, поэты и актеры, – как бы ни пытались изобразить нечто настоящее, всегда получается не настоящее, а изображение. Можно умереть в другом смысле, а тело будет жить и вкусно кушать то, из чего сделаны краски.
Их называют счастливчиками, тех, кто рано умер в другом смысле, и еще их называют благополучными людьми. Они сыты, довольны и ничто их не гложет. Другого голода нет, а тело насытить – пара пустяков. Поэтому они счастливы, что все их заботы – пара пустяков.
«Ешь, люби, молись» – последний шедевр кинематографа. Показывали по телевизору, и я смотрел. Рекордные кассовые сборы для фильма без спецэффектов. Джулия Робертс в главной роли. Режиссер – какой-то итальянец. Итальянцы, мастера натюрмортов, умеют изображать изображения, искаженные лучами света, тенями и перевернутыми отпечатками на сетчатках. Я тоже описываю все как могу. Хочу, чтобы было смешно. Люблю, когда смешно. Особенно когда рядом грустно. Но только бы не получились кулинарные сравнения.
Мне бы так написать, чтобы про еду не думать. Но как не думать про еду, когда голодный? И как не думать про секс, когда голодный? Здесь я только и думаю о том и другом – кулинарно-сексуальное месиво.
107
Писателем быть трудно. Чтобы им стать, нужно преодолеть позывы плоти, а то завязнешь, и получится кулинарная книга рецептов. В книжных бутиках книги рецептов стоят дорого. Можно разбогатеть и вкусно есть, а я хочу написать, чтобы не говорили «ВКУСНО НАПИСАНО». Они так говорят, потому что вечноголодные. Но я придумал, как обхитрить и остаться живым.
Сделаю так, что они отравятся. Прочтут и скажут: «Вкусно написано», а внутри будет яд. Сожрут и начнут гнить. Кишки повываливаются, а без кишок какой секс? Когда дойдет моя очередь, уже нечем будет есть и переваривать. Все будет отравлено. Так я уцелею. Ешьте мой яд, пейте мой яд.
108
Писатели – смелые люди. Они не знают, что они смелые. Их смелость исходит из глупости. Они смелые как дураки: не знают, во что вляпались, и не ведают, что творят. Они смелые, потому что им есть где спрятаться. Там, где они прячутся, бывает смертельно опасно, потому что сбывается то, о чем они написали.
Писать приходится о разном, чтобы интересно читать. Это разное – плохое, хорошее, страшное, опасное – автор переживает сам до или после написания. Бывает, одновременно с написанием, как я сейчас. Особенно опасно писать от первого лица, но они все равно пишут (я говорил, они дураки), потому что хотят быть первыми, кто придумал и написал, чтобы другие потом читали и завидовали. Их смелость – это страх перед забвением. Они хотят жить вечно и защищаются от других, прячась за своими книгами. Но другие – это те, кто их книги читают, а потом говорят «нравится» или «не нравится». Без других они перестанут быть смелыми или вообще перестанут быть.