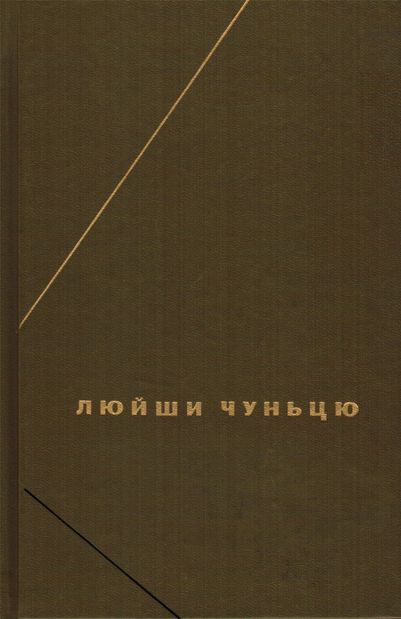было, не брались, не обсудив дела. Мы никогда не ходили врозь. Мы были едины как по причине общности наших характеров и склонностей, так и из-за тягот и лишений, на которые обрекало нас рабское положение.
В конце 1834 года мистер Фриленд продлил срок моей службы еще на год. Но к этому времени я уже начал хотеть жить не только у мистера Фриленда, чье имя значит «свободная земля», но и на действительно свободной земле; и поэтому я уже не был бы доволен жизнью ни у него, ни у любого другого рабовладельца. Как только начался год, я стал готовить себя к решающей схватке, чтобы тем или иным путем решить мою судьбу. Мое стремление возрастало. Я быстро взрослел и, хотя проходил год за годом, все же оставался рабом. Эти мысли будоражили меня – я должен что-то делать. Поэтому я решил, что 1835 год не должен пройти без попытки с моей стороны завоевать свободу. Но я не был готов к тому, чтобы решиться на это в одиночку. Мои собратья были дороги мне. Я страстно хотел, чтобы они приняли участие в этом животворном решении. Поэтому я с огромной осторожностью начал заблаговременно выяснять их взгляды и чувства относительно своего положения и вселять в их души мысли о свободе. Я заставлял себя обдумывать пути и средства нашего побега, а тем временем старался во всех подходящих случаях объяснить им весь страшный обман и бесчеловечность рабства.
Сперва я пошел к Генри, после к Джону, затем к остальным. Я нашел у всех них теплые сердца и доблестный дух. Они были готовы слушать и действовать, как только будет предложен возможный план. Это было то, что я хотел. Я говорил им, о каком мужестве может идти речь, если мы покорились порабощению, так ни разу и не попытавшись добиться свободы. Мы часто встречались и, советуясь, делились нашими надеждами и опасениями, перечисляли реальные и воображаемые трудности, с которыми нам предстояло встретиться. Временами мы почти были готовы отступиться и смириться с нашей несчастной долей, в другой раз мы были тверды и непреклонны в нашем решении бежать. Всякий раз, когда возникал какой-то план, возникали и сомнения – шансы были ничтожны. Наш путь был полон огромных препятствий, и, если бы нам посчастливилось пройти его до конца, наше право на свободу все еще было под вопросом – по закону нас могли вернуть в рабство. Здесь, на этой стороне океана, мы не видели места, где могли бы обрести свободу. Мы ничего не знали о Канаде. Наше знание Севера простиралось не далее Нью-Йорка. И бежать туда и жить в постоянном страхе перед ужасной возможностью быть возвращенными в рабство – с уверенностью, что с нами будут обращаться в десять раз хуже, – одна мысль об этом, мысль, которую нелегко было преодолеть, была поистине ужасна. Иногда дело обстояло так: в каждых воротах, через которые нам нужно было пройти, мы видели по караульному, на каждой переправе – по часовому, на каждом мосту – по стражнику и в каждом лесу – патруль. Мы были окружены со всех сторон. В этом и были трудности, реальные или воображаемые – надо было найти добро и избежать зла.
С одной стороны, позади оставалось рабство, суровая реальность, свирепо взирающая на нас, – ее одежда уже обагрена кровью миллионов людей, и даже сейчас она жадно наслаждается нашей плотью. С другой стороны, давным-давно, на туманном расстоянии, под мерцающим светом Северной звезды, позади некоего скалистого утеса или покрытой снегом горы, нас ожидала призрачная свобода – наполовину недоступная, – зовущая идти и разделить ее гостеприимство. Одного этого иногда было достаточно, чтобы поколебать нас, но когда мы позволяли себе оглянуться на весь путь, то обычно пугались. С любой из сторон мы видели зловещую смерть, принимающую самые ужасные образы. То это был голод, заставляющий нас есть собственную плоть; то мы боролись с волнами и тонули; то мы были истерзаны в клочья клыками свирепой ищейки. Нас жалили скорпионы, преследовали дикие звери, кусали змеи, и наконец, достигнув желанного места – после переплывания рек, стычек с хищниками, сна в лесах, страданий от голода и холода, – мы были застигнуты врасплох нашими преследователями и, сопротивляясь, застрелены на месте.
Послушайте, эта картина иногда устрашала нас и заставляла «охотнее сносить те несчастья, что мы имели, чем лететь к другим, о которых не знали».
В своем намерении бежать мы сделали больше, чем Патрик Генри, когда он бросил клич: «Свобода или смерть!»[17] Для нас это была не больше чем сомнительная свобода и почти верная смерть, если бы мы потерпели неудачу. Что же касается меня, я бы предпочел смерть безнадежному рабству.
Сэнди, единственный из нас, отказался от этого намерения, что еще больше ободрило нас. Наша компания тогда включала Генри Харриса, Джона Харриса, Генри Бэйли, Чарльза Робертса и меня. Генри Бэйли доводился мне дядей и принадлежал моему хозяину. Чарльз был женат на моей тетушке, он принадлежал тестю моего хозяина, мистеру Уильяму Гамильтону.
План, к которому мы наконец пришли, заключался в том, чтобы взять большое каноэ, принадлежащее мистеру Гамильтону, и в субботнюю ночь, накануне пасхальных праздников, грести прямо Чесапикским заливом. Добравшись до устья залива, на расстоянии семи или восьми миль от места, где мы жили, следовало отпустить каноэ по течению и двигаться, руководствуясь Северной звездой, до тех пор, пока мы не окажемся вне пределов Мэриленда. Залив был выбран для бегства по той причине, что меньше всего давал повода для подозрений; мы надеялись, что нас примут за рыбаков; тогда как если бы мы отправились в дорогу по суше, то столкнулись бы с препятствиями почти любого рода. Всякий, кто был белым и тем более имел подозрение, мог остановить нас и потребовать объяснений.
За неделю до бегства я написал несколько пропусков, по одному для каждого из нас. Насколько я припоминаю, в них было написано следующее:
«Настоящим удостоверяется, что я, нижеподписавшийся, дал предъявителю, моему слуге, полную свободу идти в Балтимор и проводить пасхальные праздники. Написано мною собственноручно, в 1835 году.
Уильям Гамильтон.Близ Сент-Микелс, в округе Тэлбот,Мэриленд».
Мы не собирались в Балтимор; но, поднимаясь к заливу, мы шли по направлению к нему, и эти пропуска могли бы защитить нас по дороге.
По мере того как приближалось время ухода, наши опасения усиливались. Для нас это действительно было делом жизни и смерти. Теперь предстояло испытать твердость нашего решения. На этот раз я был очень активен, объясняя всякую трудность, устраняя всякое сомнение, рассеивая всякий страх и вдохновляя всех решительностью, необходимой для