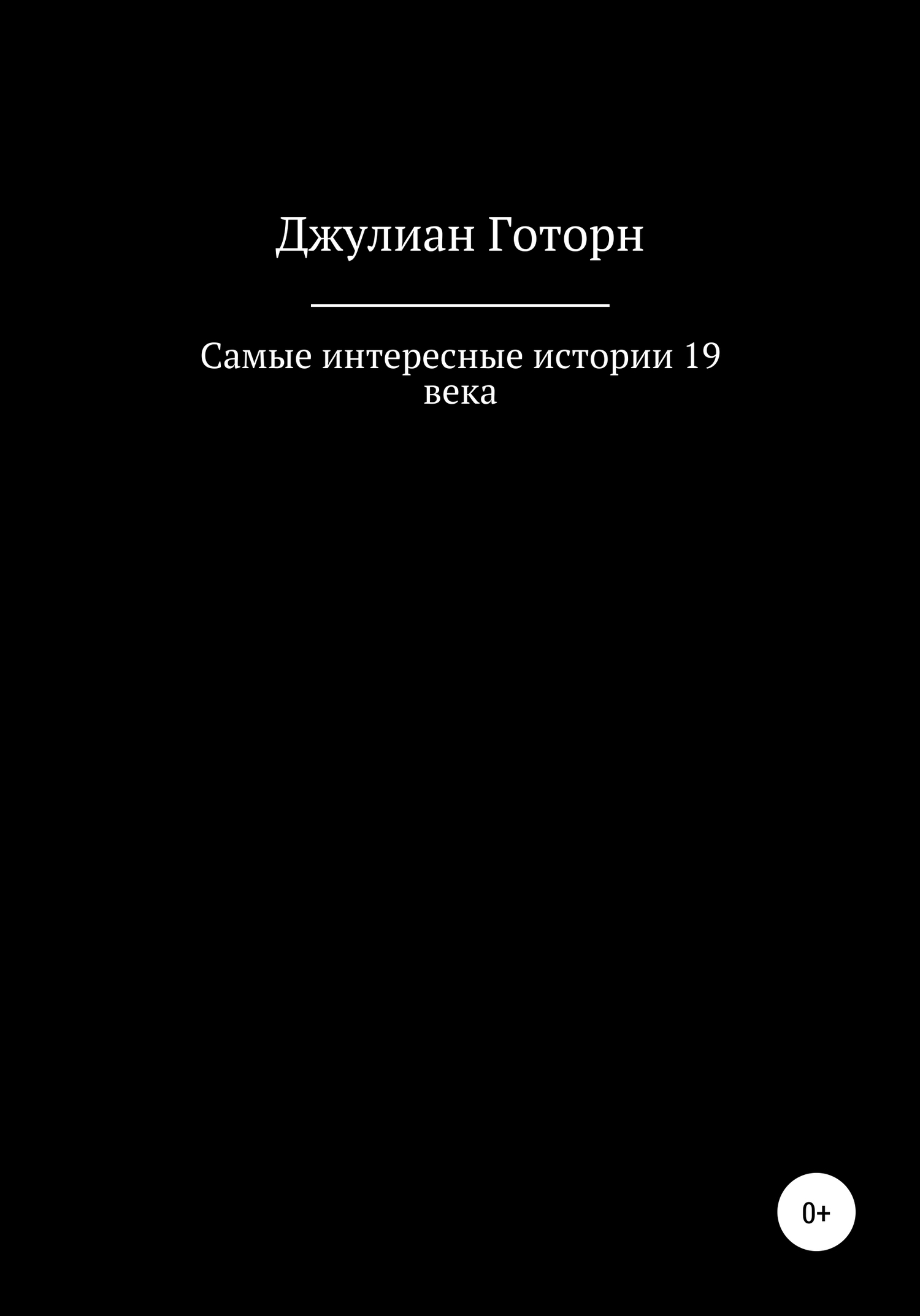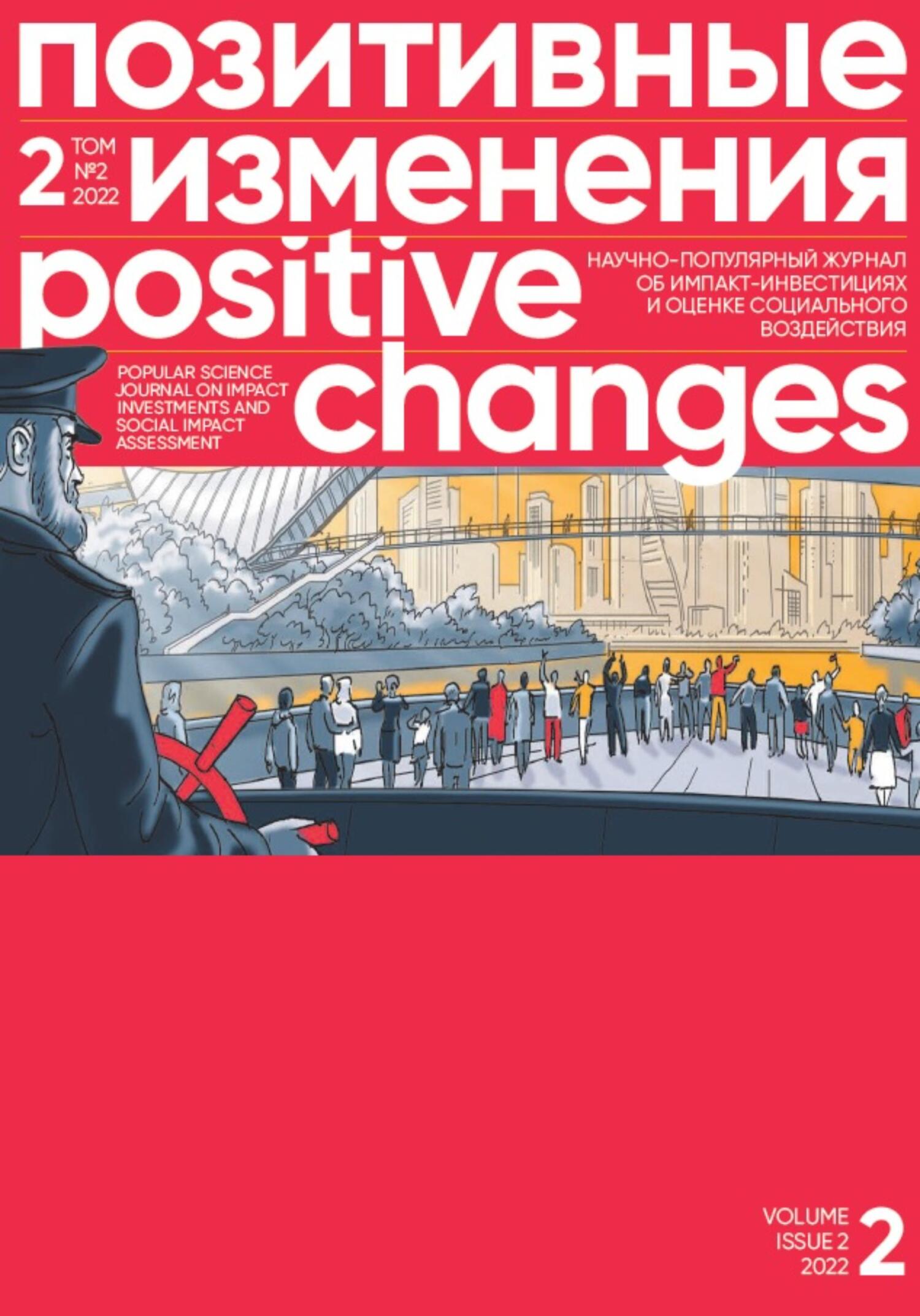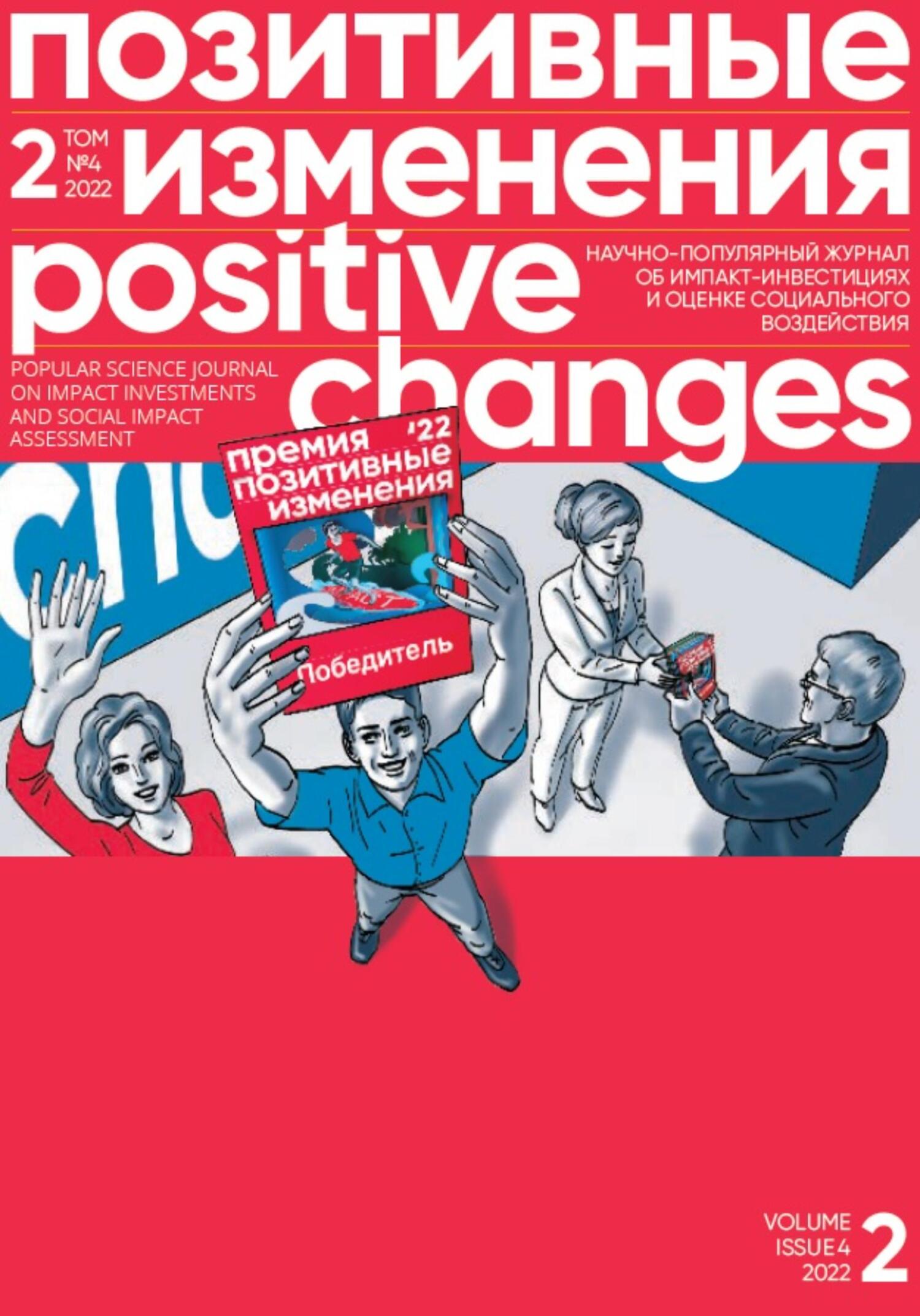много уже лет ни один гость не бывал ни в сердце старой девы, ни в этой комнате.
В неуловимом очаровании Фиби была еще другая особенность. Спальня эта, без сомнения, была свидетельницею различных сцен человеческой жизни: здесь пролетали радости брачных ночей, здесь новорожденные делали свой первый вдох, здесь умирали старики. Но потому ли, что в этой комнате благоухали белые розы, или по какой-нибудь тайной причине, но только человек с нежным инстинктом тотчас бы узнал, что это спальня девушки, очищенная от всех прошедших горестей чистым ее дыханием и счастливым настроением мыслей. Веселые сновидения прошедшей ночи разогнали прежний мрак и сделали эту комнату своим жилищем.
Распределив все вещи так, как ей нравилось, Фиби вышла из комнаты с намерением опять спуститься в сад. Кроме розового кустарника, она заметила там некоторые другие породы цветов, дико растущие без присмотра и заглушающие друг друга своею беспорядочной густотой. На верху лестницы она повстречала Гефсибу, которая, так как было еще очень рано, пригласила ее в комнату. Она бы назвала эту комнату своим будуаром, если бы по ее воспитанию для нее было доступно это французское название. Комната была убрана несколькими старыми книгами, рабочим ящиком и потемневшим письменным столом. В одном углу стояла странной наружности черная вещь, которую старая леди назвала клавикордами. Эти клавикорды похожи были более на гроб, нежели на что-либо другое, и так как на них давно уже никто не играл и даже не открывал их, то едва ли музыка не умерла в них навеки от недостатка воздуха. К их струнам, может быть, не прикасались человеческие пальцы со времен Алисы Пинчон, которая усовершенствовала свои музыкальные способности в Европе.
Гефсиба попросила свою молодую гостью садиться и, опустившись возле нее на стул, посмотрела так пристально на маленькую, изящную фигуру Фиби, как будто хотела выведать все ее чувства и тайные движения души.
– Кузина Фиби, – сказала наконец она, – и, право, не знаю, как тебе со мной жить!
Эти слова, однако, вовсе не заключали в себе негостеприимной грубости, какой они могли поразить читателя, потому что две родственницы объяснились уже между собой накануне, перед отходом ко сну. Гефсиба узнала от своей кузины столько, что понимала обстоятельства (произошедшие от вторичного выхода замуж матери Фиби), которые заставили Фиби искать приюта в другом доме. Она не могла не ценить характера молодой девушки, отличавшегося необыкновенной деятельностью ума – самая достойная черта в уроженке Новой Англии, – который побуждал ее искать своего счастья с полным самоуважением и с соблюдением наибольшей для себя выгоды. Будучи одной из ближайших родственниц Гефсибы, Фиби, естественно, обратилась к ней, нисколько не вынуждая ее к покровительству, но просто чтобы погостить у нее неделю или две, а если они обе найдут в этом удовольствие, то остаться у нее и на неопределенно долгое время.
Поэтому на грубое замечание Гефсибы Фиби отвечала с невозмутимым спокойствием и веселостью:
– Милая кузина, я не могу сказать вам, как это уладится; но я, право, думаю, что мы сойдемся между собой лучше, нежели вы думаете.
– Ты милая девушка, это я вижу тотчас, – продолжала Гефсиба, – и совсем не этот пункт меня затрудняет. Только мой дом слишком печальное место для такой молодой, как ты, особы. В него довольно много проникает ветра и дождя и даже снега зимой на чердак и в верхние комнаты, но солнца очень мало. Что же касается меня, то ты видишь, что я угрюмая и одинокая старуха, а я начинаю уже называть сама себя старухою, Фиби. Характер у меня, боюсь, не слишком приятный, и в нем столько причуд, как только ты можешь себе представить. Я не могу сделать здесь твою жизнь, кузина Фиби, приятной и дам тебе разве кусок хлеба.
– Вы найдете во мне веселого ребенка, – отвечала Фиби с улыбкой и в то же время с каким-то нежным достоинством, – и я намерена зарабатывать для себя кусок хлеба. Вы знаете, что я воспитана не по-пинчоновски. В новоанглийских деревнях каждая девушка научается очень многому.
– Ах, Фиби, – сказала со вздохом Гефсиба, – твоя наука поможет здесь очень мало, и притом тяжело думать, что ты должна проводить свои молодые годы в таком месте, как это. Эти щеки через месяц или через два не будут уже такие розовые. Посмотри на мое лицо! – В самом деле, контраст был разителен. – Ты видишь, как я бледна! Я думаю, что пыль и постоянное разрушение этого старого дома вредны для легких.
– У вас есть сад, есть цветы, за которыми надо ухаживать, – заметила Фиби. – Я буду поддерживать свое здоровье движением на свежем воздухе.
– Да при всем том, – сказала Гефсиба, быстро вставая и как будто желая прервать разговор, – не мое дело говорить о том, кто будет или не будет гостем в старом Пинчоновом доме: скоро воротится его хозяин.
– Вы разумеете судью Пинчона? – спросила Фиби с удивлением.
– Судью Пинчона! – отвечала с досадой ее кузина. – Едва ли он переступит через порог этого дома, пока я жива! Нет, нет! Но я тебе покажу, Фиби, портрет того, о ком я говорю.
Она ушла за описанной уже нами миниатюрой и воротилась, держа ее в руке. Подавая портрет Фиби, она наблюдала внимательно за выражением ее лица, как будто ревнуя к чувству, которое девушка должна была обнаружить при взгляде на портрет.
– Как нравится тебе это лицо? – спросила Гефсиба.
– Прекрасное! Прелестное! – сказала Фиби с удивлением. – Это такое привлекательное лицо, какое мужчина может или должен иметь. В нем есть какое-то детское выражение, однако ж это не ребячество, только чувствуешь к нему особенную расположенность! Он, мне кажется, никогда не страдал. Каждый готов бы был, мне кажется, вытерпеть очень много, чтобы только избавить его от тяжких трудов и горя. Кто это, кузина Гефсиба?
– Разве ты никогда не слыхала, – шепнула, наклонившись к ней, Гефсиба, – о Клиффорде Пинчоне?
– Никогда! Я думала, что на свете нет больше Пинчонов, кроме вас и вашего кузина Джеффри, – отвечала Фиби. – Впрочем, кажется, я слышала имя Клиффорда Пинчона! Да, от моего отца или матери; но разве он не умер уже давно?
– Да, да, дитя мое, может быть, и умер! – сказала Гефсиба с неприятным, глухим смехом. – Но в старых домах, как этот, ты знаешь, мертвые любят селиться! Сама увидишь. Но так как после всего, что я тебе сказала, ты не потеряла своей храбрости, то мы не расстанемся так скоро. Мне приятно, дитя мое, видеть тебя теперь в своем доме, каков он ни есть.
И с этим умеренным,