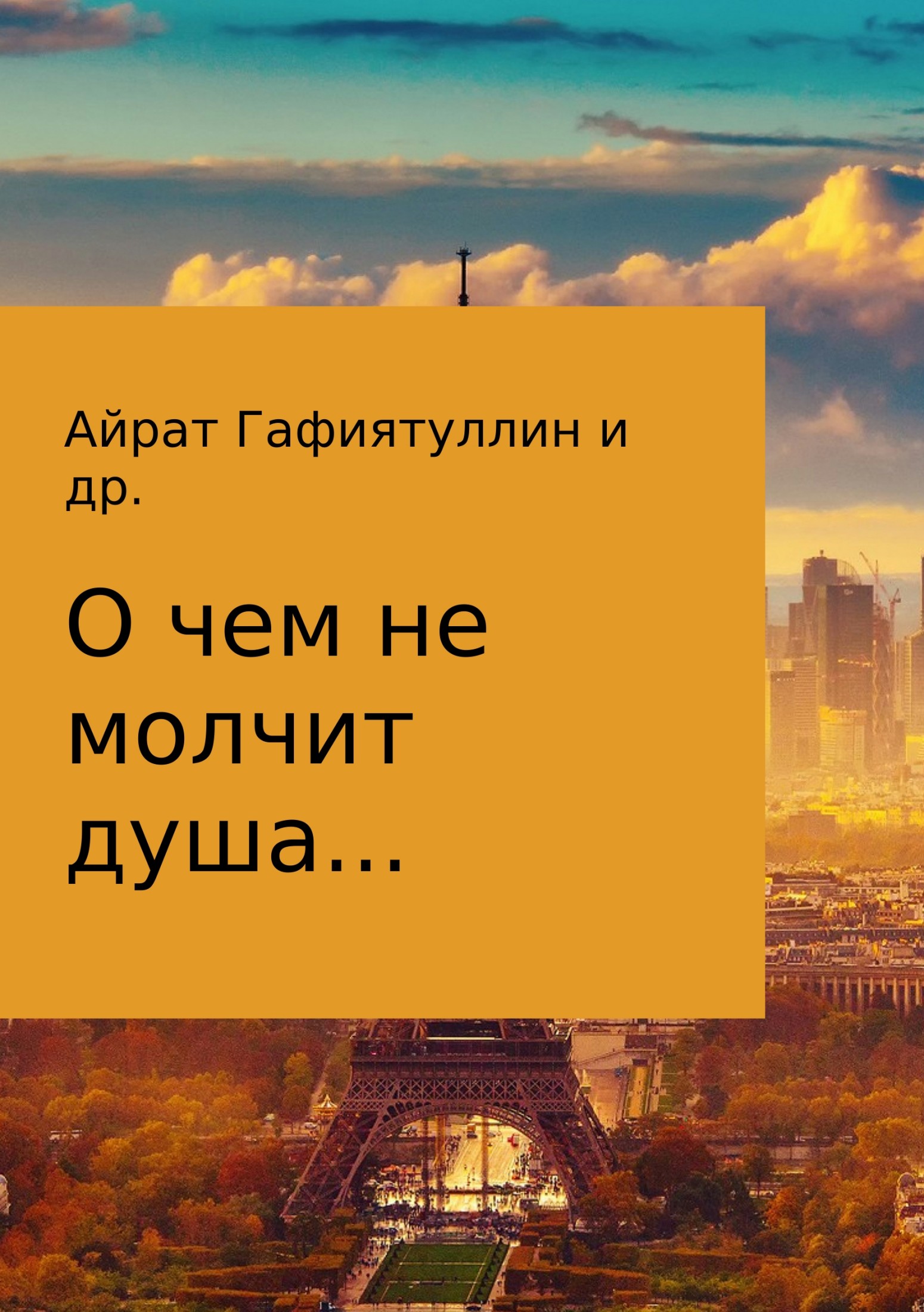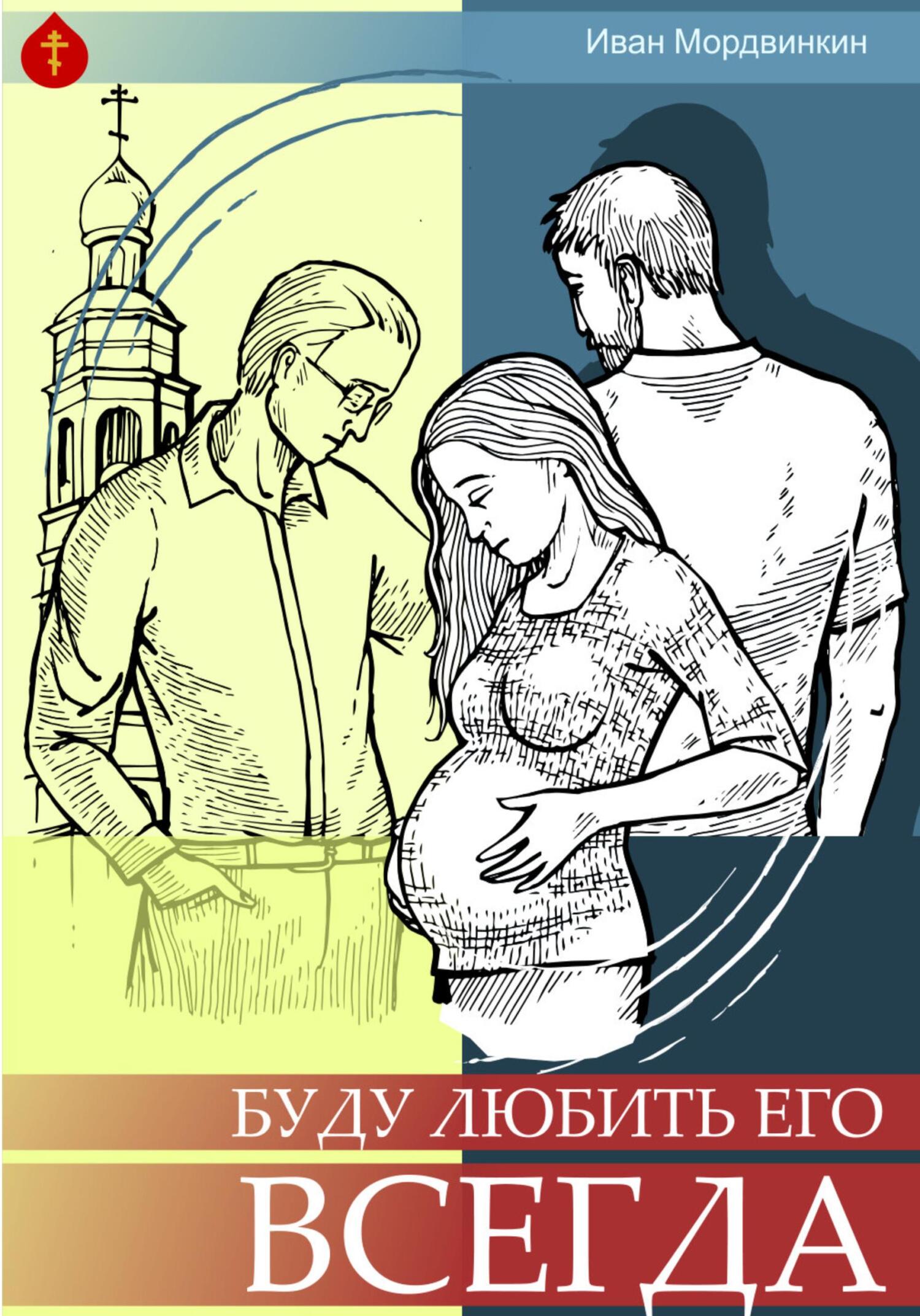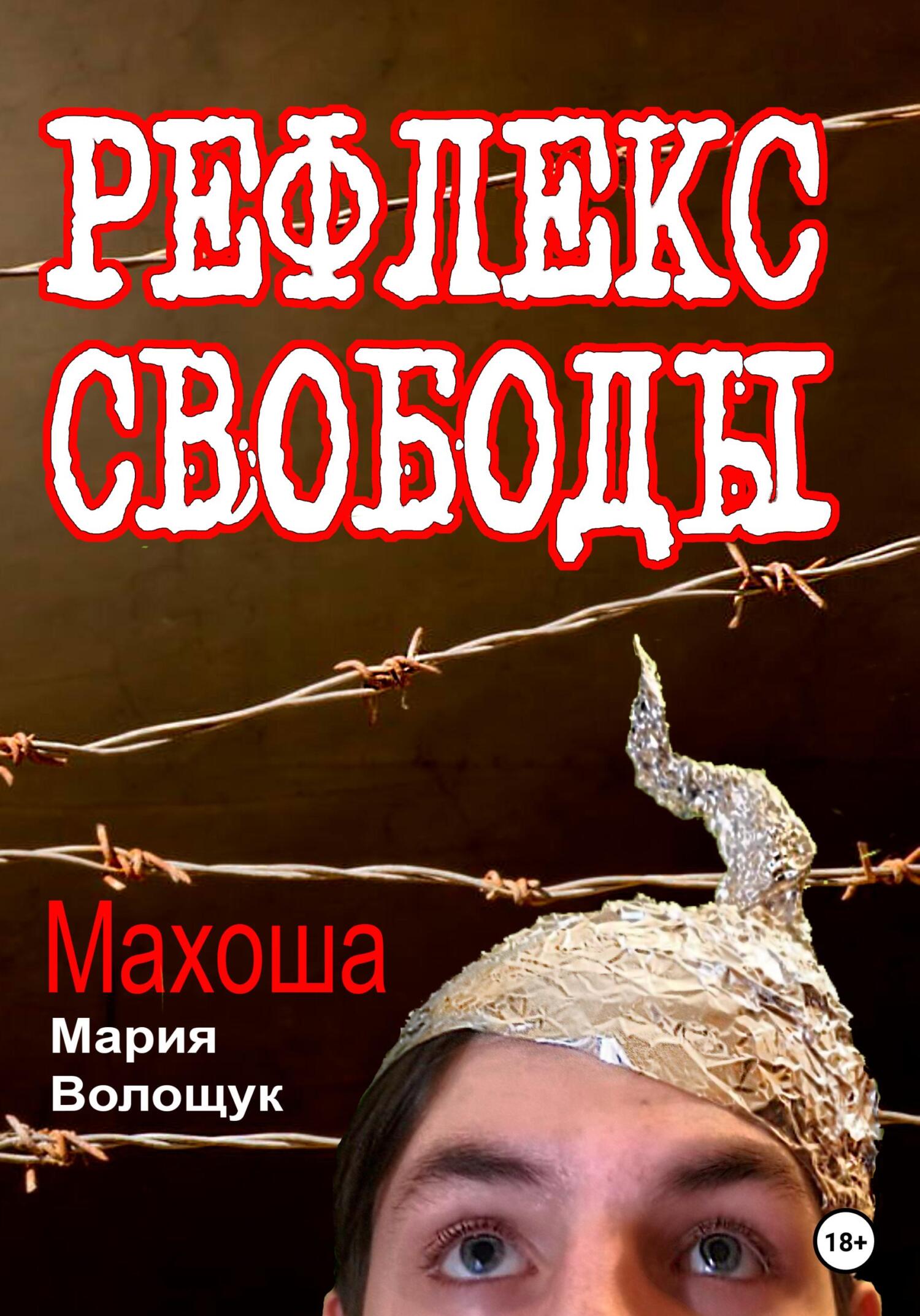подошли, они должны были раздеваться донага, за исключением нескольких старух, которые должны были обнажить только верхнюю часть тела.
Потом… сталкивали их в ров и сверху расстреливали их. Когда женщины услышали приказ раздеться, они очень кричали, потому что поняли, что они будут расстреляны… я оставался на месте экзекуции не более получаса, и за это время было расстреляно 30–50 женщин.
После расстрела одной группы женщин следующая группа сталкивалась на том же самом месте в ров, прямо на тех, которые только что были расстреляны.
Расстрела детей я лично не видел, но большое количество детей находилось в толпе.
Я категорически подтверждаю, что мои показания соответствуют истине…”
И что же я услышал в ответ? Стыдно и горько писать об этом. Он произнес только эти слова: “Это было давно — сейчас всё другое”.
Это ж насколько мы зачерствели, что боль и страдания человеческие уже не чувствуем? Привыкли, что ли, к жестокости? Все идеи братства, дружбы всеобщей куда-то исчезли, растворились в быстро сменяющейся современности.
Почему я, уже совсем старый человек, не могу забыть того взгляда мальчишки, который после моего выстрела неожиданно обернулся, и его удивленные и испуганные глаза, как мне тогда показалось, что-то хотели спросить, но не успели. Он упал скрючившись на землю и так застыл навсегда. Меня в том бою ранило, да и весь наш взвод практически загубили. Потом, после месяца госпитального лечения, отправили меня на север и дали роту. В атаки мы долгое время не ходили, оборонялись, и, наверное, я потому и выжил. Много всего было потом, но первого своего убитого я запомнил на всю жизнь. Убийца я — вот и вся правда. Первый бой и первый мой убитый из своих. Говорили мне: предатель он, руки поднял, сдаваться к врагу пошел, но мне от этого не легче — свой же человек, не чужой».
Она читала блокнот и думала:
«Генерал к старости стал очень чувствительным. Не должен быть таким боевой офицер, прошедший всю войну. А вот же стал. Это, наверное, старческая меланхолия его одолела, да семья его неуютной была».
А генерал писал и писал, как будто исповедовался:
«Зверства на войне от зверей и происходят. В зверских условиях нормальный человек грубеет, озлобляется и может зверем стать. И я стал жестоким. Не обращал внимания на наших чрезмерно буйствующих. Оправдывал: мстят ребята за зверства, учиненные у нас.
В очередной раз, когда зашла Пуэла, мы долго говорили о Ньюке. Она защищала его и как-то называла слишком нежно: “Наш мальчик”.
“«Наш мальчик» вырос эгоистом”, — подумал я, а ей сказал, что “наш мальчик” интересуется наследством, которое ему достанется после нас. Я специально сказал: “После нас”, но она прекрасно поняла, что я хотел сказать. Я заметил, как печально склонила она голову, — она догадалась: Ньюка ждет наследство от деда.
Теперь, через много лет, пока он рос, я понимаю, что без матери воспитание получилось скверное».
Юста устала разбирать мелкий почерк генерала и, преодолевая сон, стала просто пролистывать блокнот, обращая внимание только на те места, где речь шла о Ньюке.
«От меня скрывают истину о моей болезни, — писал генерал, — но я чувствую, что-то во мне не очень в порядке. Медперсонал как-то настороженно внимательно ко мне относится. Ньюка, похоже, что-то знает о моей болезни, но пока что держится, молчит. Я иногда вижу, что ему не терпится что-то мне сказать, но ему запретили. А вот Пуэла всегда весела, когда заходит речь обо мне, говорит, что госпиталь этот наилучший и что к весне меня уж точно выпустят.
К весне у меня закончится этот толстый блокнот и мысли все “ценные” закончатся. Сейчас осень. Мне эта пора нравится, а вот Ньюке подавай лето. “Наш мальчик” склонен к безделью, а жаль. Кого мне жаль? Себя или Ньюку? Жаль, конечно, его. Ему еще жить да жить с этим менталитетом потребителя. Разве это хорошо? Разве такими хотели мы, чтобы они стали? Разве за это…»
На этой незаконченной фразе текст записок генерала обрывался. Чистой оставалась еще почти половина блокнота.
«Что еще мог написать генерал, если бы…» — подумала она.
Часы в гостиной пробили четыре раза.
* * *
Утром Крео тихонечко будил ее:
— Поднимайся, труженица! Всю ночь просидела с генералом? Не выспалась?
Полусонная, она повернулась к нему и почти шепотом ответила:
— Да, до четырех, — и, кашлянув, спросила: — Который час?
— Уже девять, — ответил он. — Сегодня солнышко и, кажется, первый легкий морозец.
— Ой! — вскрикнула она. — Опаздываю! — и быстро выскочила из-под одеяла.
За завтраком он спросил ее, весь ли блокнот она прочла. Она ответила, что весь. Добивая свой любимый бутерброд, Крео заявил:
— Прошу прощения, но я заглянул в записки. Какой-то странный был генерал — генерал-пацифист. Это нынче большая редкость.
Она утвердительно угукнула в ответ и, заканчивая завтрак, спросила:
— Ты что-то мне вчера на ночь прочел. Можешь повторить? Только быстро, я тороплюсь.
— Могу и быстро, — ответил он и пробубнил весь текст:
Потом. Когда-нибудь потом
Мы станем лучше, чем мы были
И, может быть, тогда поймем,
Как мы сейчас недолюбили.
Потом. Когда-нибудь потом,
Когда прекрасные погоды
Придут, конечно, в каждый дом
И мы умнее станем моды.
Слова найдутся посильней,
Чем те, что ныне между нами.
Все погремушки в старом хламе
Забудутся в потоке дней.
— Хорошо, — сказала она. — Я побежала. Шеф с утра ждет. Пока.
— Пока-пока, — скороговоркой ответил он.
* * *
Наши-Ваши с напускной строгостью поздоровался с Юстой и, делая вид, что изучает какую-то бумагу, спросил:
— Ну как? Всё готово?
Она ответила:
— Да, готово.
— У нас трудностей не убавляется, — недовольно проворчал Наши-Ваши. — Видела, у входа толпа? Уже полгорода шумит. Твою подопечную защищают.
Юста пожала плечами, но ничего не ответила.
— Что молчишь? — продолжил Наши-Ваши. — Теперь общественное мнение многое значит. Пока мы тут раскручиваем, они, — он кивнул в сторону окон, — уже всё решили: кто прав, кто виноват?
— И кто же виноват? — спросила она.
— Ты что, не следишь за прессой и телеком? — удивился Наши-Ваши. — Вчера вечером всё и началось. Вот, читай вечерние новости, — он достал из стола газету и прочел: — «Несправедливая справедливость». Это ж надо такие слова придумать! — и он снова прочел название статьи.
— Я вчера весь вечер работала и телевизор не включала, — ответила она.
— Не включала, — повторил он сердито. — Ты не включала, а город включал. Видишь — телефон молчит?