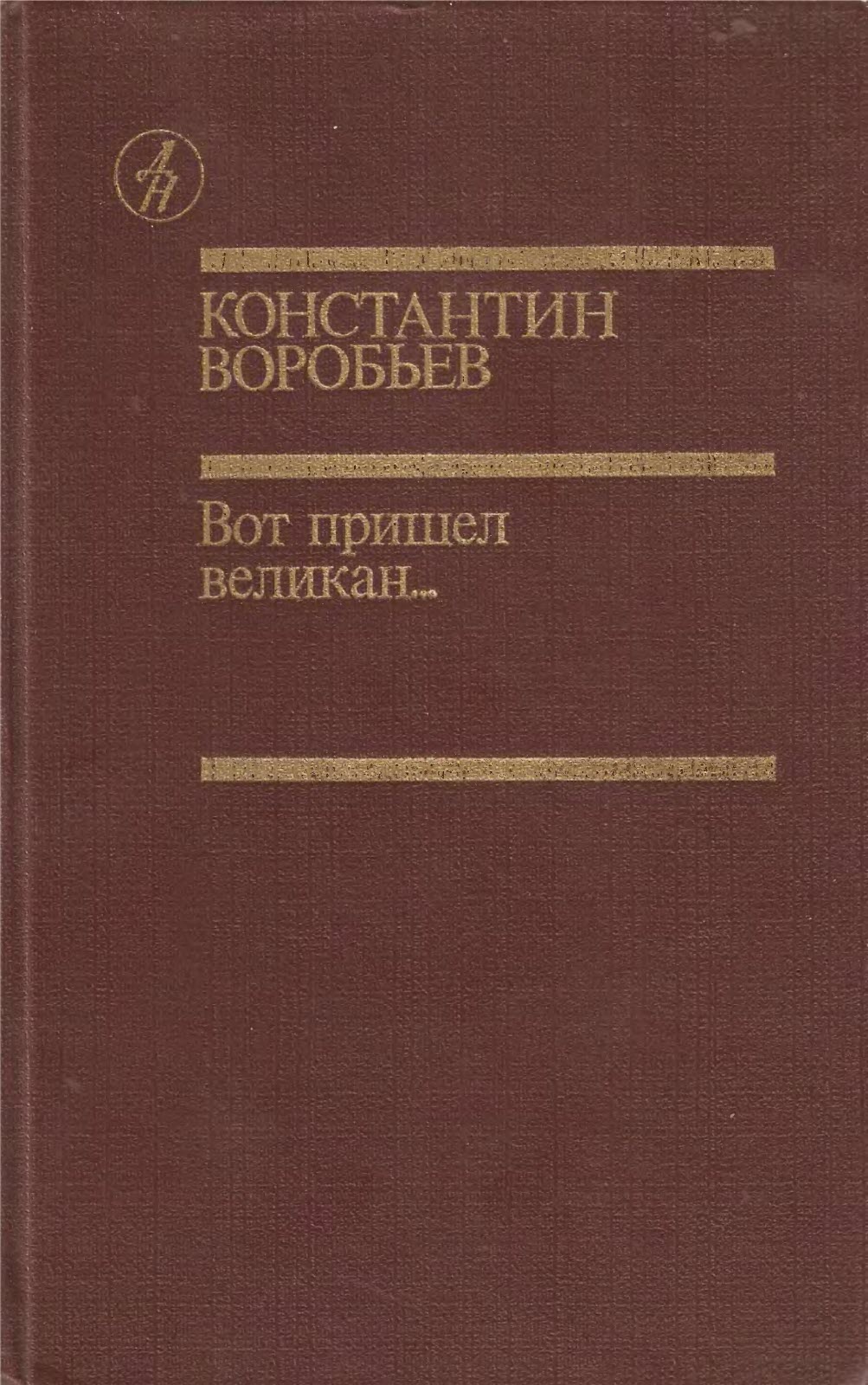в какие-то неведомые закоулки, не раз заставляла мерить дорогу от пекарни до булочной. И лишь в его законное обеденное время ему вынесли корзину хлебных кусков, но он уже так сердился на Марью, что сразу мордой опрокинул корзину, и, лишь чуть успокоившись, стал подбирать с земли куски, все еще сердито пришлепывая отвислыми толстыми губами.
На этот раз Тимофей уверенно открыл звякнувшую петлями калитку, как будто всю жизнь только и делал, что открывал ее, и зашагал по скрипучей шлаковой дорожке к дому. Красные, еще не опавшие листья дикого винограда свисали с крутой крыши крыльца, точно праздничные флаги. Желтые от свежей охры ступеньки были чистыми, на них не виднелось ни единого следа, будто дом стоял нежилой и это дожди и время вымыли крыльцо.
Не найдя кнопку звонка, он постучал в дверь. Она тотчас же открылась — ждали его, что ли?
— Тимофей? — В голосе Тони — удивление и радость. Да, радость, в этом он не мог ошибиться. — Как здорово, что это ты! Умираю со скуки… Проходи…
Маленькая, аккуратная и красивая, она будто специально родилась для этого небольшого и аккуратного дома и была в нем такой своей, незаменимой, что Тимофей даже подумал, что дом делали только для нее.
Они прошли узким коридорчиком, вошли в прихожую, в меру просторную. Тут стоял белый холодильник «Саратов», будто сделанный только для Тони. Они открыли не узкую и не широкую, а такую, что в самый раз, дверь и очутились в комнате, такой, которая все, что нужно, вмещала, не оставляя лишнего пустого места и не создавая тесноты.
В комнате было одно окно. Тимофей сразу понял, что выходило оно вовсе не на дорогу, как он думал, и что раньше он зря торчал под теми двумя окнами и мечтал увидеть Тоню — те окна были в комнате Тониной мамы. Ему стало немножко смешно. Тут еще стоял столик с одной тумбочкой, кушетка с ореховой спинкой, низенький платяной шкаф. Все было похоже на Тоню, и Тоня была похожа на все, что тут было.
Заметив, как он все разглядывает, Тоня спросила:
— Нравится у меня? Ты не бывал?
— Не бывал, — сказал он и подумал, что, оказывается, здесь можно бывать. — И мне очень нравится. Все какое-то твое. Наверно, не хочется с этим расставаться?
— Не хочется?.. — Ее маленькое красивое личико помрачнело. — Если бы сказали: подожги дом, тогда примем в институт, подожгла бы, не ахнула.
— Тоже скажешь…
— Подожгла бы! И не ахнула, — повторила она, наверно, уже не раз повторяемое.
«И подожгла бы», — подумал он. И спросил:
— Что ты теперь делаешь?
— Ничего… От злости зубрю русский. Пишу контрольные… Видишь, сколько бумаги испортила. — Она подняла и опустила над столом пачку листков. Листки рассыпались по столу, но ни один не слетел на пол. Наверно, она уже не раз показывала это кому-нибудь. — Раз задумала, не изменю своему любимому делу. Только одержимость приведет к цели.
— Где вычитала? — спросил он. Удивительно, как свободно он чувствовал себя тут: ходил по комнатушке, рассматривал все и чувствовал даже превосходство над Тоней, хотя у него ничего этого не было: ни своей комнаты, которая родилась бы вместе с ним, ни его упорства в достижении своей когда-то единственной мечты о море.
— А что, своего ума, что ли, нет? Я много думала о жизни, когда это со мной случилось. И сейчас все время думаю… Ну почему, почему, скажи мне, так получается? Я вот до смерти хочу стать врачом, и не потому, что у меня мама врач, а потому, что это мне нравится. Без этого я не могу жить. И я не попала в институт и буду год терзаться, а может, и вообще не попаду никогда, потому что я уже боюсь каждой буквы, каждого слова, когда пишу.
— Ну что ты, и ничего нет трудного…
— Ладно, погоди… Я не попаду, хотя верю — из меня получился бы врач. Настоящий! Я ведь с мамой иногда поддежуривала. Никто и не подумал, что я не медик: болезни знаю, лекарства. И мама говорит — умею с больными обходиться. А попадет в мой институт тот, кому все равно куда попадать, но он не боится русского языка, и только в этом его преимущество. И будет врачом, всю жизнь будет, хотя никогда не мечтал быть им и мог бы преспокойно обойтись без кабинета, который как храм, без белого халата, без красного креста, символа милосердия и любви к человеку.
— А что делать? Вот у меня…
— Что делать? Не смиряться! А ты смирился.
— А как мне быть? Тебе хорошо, ты можешь ждать хоть десять лет, а я не могу. Сама знаешь… — Он подумал, что, так же как и она, считает себя обойденным.
— А я разве не понимаю тебя? Еще как понимаю! Но почему у нас так получается? Почему не знают, не понимают и не хотят знать и понимать, что я очень хочу, чего ты очень хочешь? Ну почему? Разве нельзя сделать так, чтобы понимали?
Он пожал плечами. Он этого не знал. Почему он все-таки не попытался этого узнать? Смирился со своей участью? А если ему нравится то, что он делает? Разве не может быть так? Разве плохо, что он печет булки и они по душе пришлись всему поселку?
— А если человеку нравится другое? Не то, о чем он мечтал… — сказал он, стараясь найти для себя правильный ответ.
— Другое? — возмутилась Тоня. — Значит, он предал свою мечту. Значит, он тряпка, потому что не выдержал.
— Легко судишь…
— Легко? А ты…
Тоня нахохлилась, как курочка на ветру, на лице ее были решимость и безусловная ясность мысли. Но она не успела сказать все, что хотела. Открылась дверь, и голос матери спросил:
— Ты не одна?
— Не одна, — ответила дочь, сердясь, что ей не дали досказать. — Это Тимофей Прохоров. Помнишь, я тебе говорила? Учились вместе.
— Тоже не поступил?
— Нет, он не подавал. Он после восьмого ушел из школы.
Тимофей отметил, что между матерью и дочерью много общего: и в лице, и в глазах, и в покатых плечах, и даже в интонациях голоса. Только мать была покрупнее и все в ней было резче.
— И что же вы делаете? — спросила Тонина мать, обращаясь к нему.
Тимофей видел, что она утомлена, что ей ничего не интересно и что спросила она просто так, чтобы не показаться невежливой.
— Он работает в пекарне, — сказала вместо него Тоня, сказала так, будто хотела уколоть его.
— Кажется, у молодого