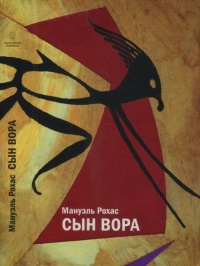с таким несовпадением и не знал, что делать. По-настоящему он должен был бы пожить в Углеграде, изучить людей и только после этого браться за перо. Но у него были такие напряженные отношения с руководством, что в теперешнем положении это оказывалось просто немыслимо.
Рассказывая, с какими трудностями удалось разместить заказы на изготовление щита, как работали, собирая его, монтажники и как осваивались в забое проходчики, Дергасов все время оставлял себя как бы в тени.
— Народ у нас знаете какой, — сдержанно нахваливал он. — Чуть не месяц ребята в палатке жили, пока на заводе металл вальцевали да детали сваривали. Зимой, в тридцатиградусные морозы! Знали, что без своего глаза оставить нельзя. А когда собирали — по неделям из шахты не вылезали. Спустим термоса́ с горячей пищей: поедят, отдохнут — и снова за работу…
— Кто же это? — заинтересовался Рослицкий.
— Да все. Салочкин, Мудряков, Козорез…
«А может, сделать героем кого-нибудь из сборщиков? — подумалось ему. — Но тогда будет только, как собирали щит, а главное ведь не в сборке».
— Завтра посмо́трите в забое, как работает, — пообещал Дергасов и скомкал наброски. — За этот месяц уже сто восемнадцать метров прошли…
Часы показывали два. На площадку с шумом и гамом вывалила отработавшая смена. Увидав свет в открытых окнах дергасовского кабинета, Козорез походя хлопнул Салочкина по плечу.
— Ого! Начальство не спит…
— Тише, штыбарь! Может, оно только придремало?.
За ними вышли опоздавшие и со смехом и шутками задержались на площадке. Тимша попросил:
— Спой, Козорез! Ну что тебе? Ты же служил там…
— Дай после бани отдышаться. Пой сам!
— У меня голоса нет.
— Вот прилип…
И, словно вспомнив службу в армии, Козорез запел отсыревшим баритонцем:
— Сопки — в дымке волоокой.
Мглой замглился горный кряж.
Ой, Амур! Амур широкий!
Амур-батюшка ты наш!
Величавый, полноводный,
Опоясал ты тайгу.
И гремишь волной холодной
На пустынном берегу.
За мечтой своей сошлись мы
Здесь семьею дружной жить
И во имя коммунизма
Этот край преобразить.
Разведем сады на склонах,
Берега возьмем в бетон,
Переженим всех влюбленных,
Влюбим тех, кто не влюблен.
Нам открыты все дороги,
А для счастья — жизнь отдашь.
Ой, Амур! Амур широкий!
Амур-батюшка ты наш!
И хотя рядом не было ни Амура, ни сопок, ни новоселов, как по волшебству казалось, что они здесь — стоит только оглянуться, и что жизнь, милая, чудесная жизнь с ее неповторимой прелестью и красой, уходит, как Амур, в далекую даль.
— Ждут в Смоленске или Курске
Писем наши старики.
А у нас теперь в Амурске
Всюду страдные деньки.
По тайге — до далей дальних —
Гул машин и шум труда,
И зовут в огнях причальных
Новоселов города.
В каждом доме — новоселье,
В каждом доме — дочь иль сын
И счастливое веселье
Самых первых октябрин.
Сопки — в дымке волоокой,
Мглой замглился горный кряж,
Ой, Амур! Амур широкий!
Амур-батюшка ты наш!
Рослицкий заслушался. После зачина Тимша не удержался, вступил дрожащим подголоском, звучавшим особенно трогательно и нежно в отдалении и ночной тьме:
— Сопки — в дымке волоокой,
Мглой замглился горный кряж.
Ой, Амур! Амур широкий!
Амур-батюшка ты наш!..
— Поют, — усмехнулся Дергасов, как-то не чувствуя, что лучше помолчать. — На работу — поют, с работы — поют! О тайге, об Амуре, о чем ни вздумается…
— Да-а, — согласился Рослицкий, думая о чем-то своем, что, пожалуй, не так просто было и выразить. — Хорошо!
Дергасов замолчал и, словно спохватившись, вспомнил:
— Пора и нам. Пойдете ко мне? Или здесь, на диване, переспите?
Рослицкий с удовольствием зевнул.
— Здесь, если можно. Не хочется вас стеснять.
— Здесь так здесь. Постельные принадлежности — в диване. Вот только с ужином…
— Спасибо, я не хочу.
— Ну, тогда спокойной ночи! Перед сменой я вас разбужу.
Закрыв стол, Дергасов задержался у двери, переставил ключ вовнутрь. Можно было уходить, но словно бы не хватало чего-то.
В глубине души ему до сих пор не верилось, что Рослицкий заинтересовался щитом и даже собирается смотреть, как тот работает. Не дождавшись, что гость подтвердит свое намерение, он попрощался еще раз, заглянул в дежурку и распорядился переключить туда телефон из кабинета.
«Все они спервоначалу прикидываются, в душу лезут, — думал Дергасов. — А держаться нужно по-прежнему».
А Рослицкий достал из дивана матрац, одеяло с подушкой и постельное белье. Песня затихла, но сдержанная ее сила все не отпускала сердце. И то ли под впечатлением разговора с Дергасовым, то ли под влиянием ее Рослицкому хотелось работать и жить не так, как он жил и работал, а как об этом пелось в песне.
10
Что ни пелось в песне, а проснулся Рослицкий в начале девятого.
«Тоже проспал, наверно, — подумал он о Дергасове, так и не разбудившем его перед сменой, и убрал постель. — Разошлись-то мы после двух…»
Внизу, в дежурке, было людно. Сидя с телефонной трубкой в руке, Дергасов ждал разговора с кем-то и ругал механика компрессорной.
— Где воздух, я спрашиваю? Опять мне забойщики плешь переедают!
Увидав Рослицкого, он замолчал и принялся изо всех сил дуть в трубку. Воспользовавшись этим, обескураженный, переминавшийся с ноги на ногу механик стал оправдываться:
— Каждый день в Тулу звоню, чтобы компрессоры из капиталки выдали; кроме обещаний — ничего!
Оба они едва уловимо походили друг на друга: то ли — привычкой держаться, то ли — манерой говорить. Рослицкий невольно почувствовал это и с интересом стал наблюдать, что будет дальше.
— Тула! Тула! Дайте завод Ленина, — закричал в трубку Дергасов и, не добившись ответа, раздраженно сунул ее механику. — Не клади, пока не вызовешь…
Рослицкий понял: последнее сказано исключительно для того, чтобы что-нибудь сказать, и, не собираясь ввязываться, решил уйти. В коридоре висела стенная газета со статьями и заметками о Первом мая, победителях соревнования и отделом «Кому что снится?»
Почти тотчас же подошел Дергасов, заговорил:
— Как спали? Я уж не стал вас будить…
— Хорошо, — суше, чем следовало, отозвался Рослицкий и требовательно напомнил: — Ну? Спускаемся?
Лицо Дергасова было помято. Под покрасневшими глазами виднелись темные мешки.
— Сейчас. Пойдемте-ка пока позавтракаем.
— А