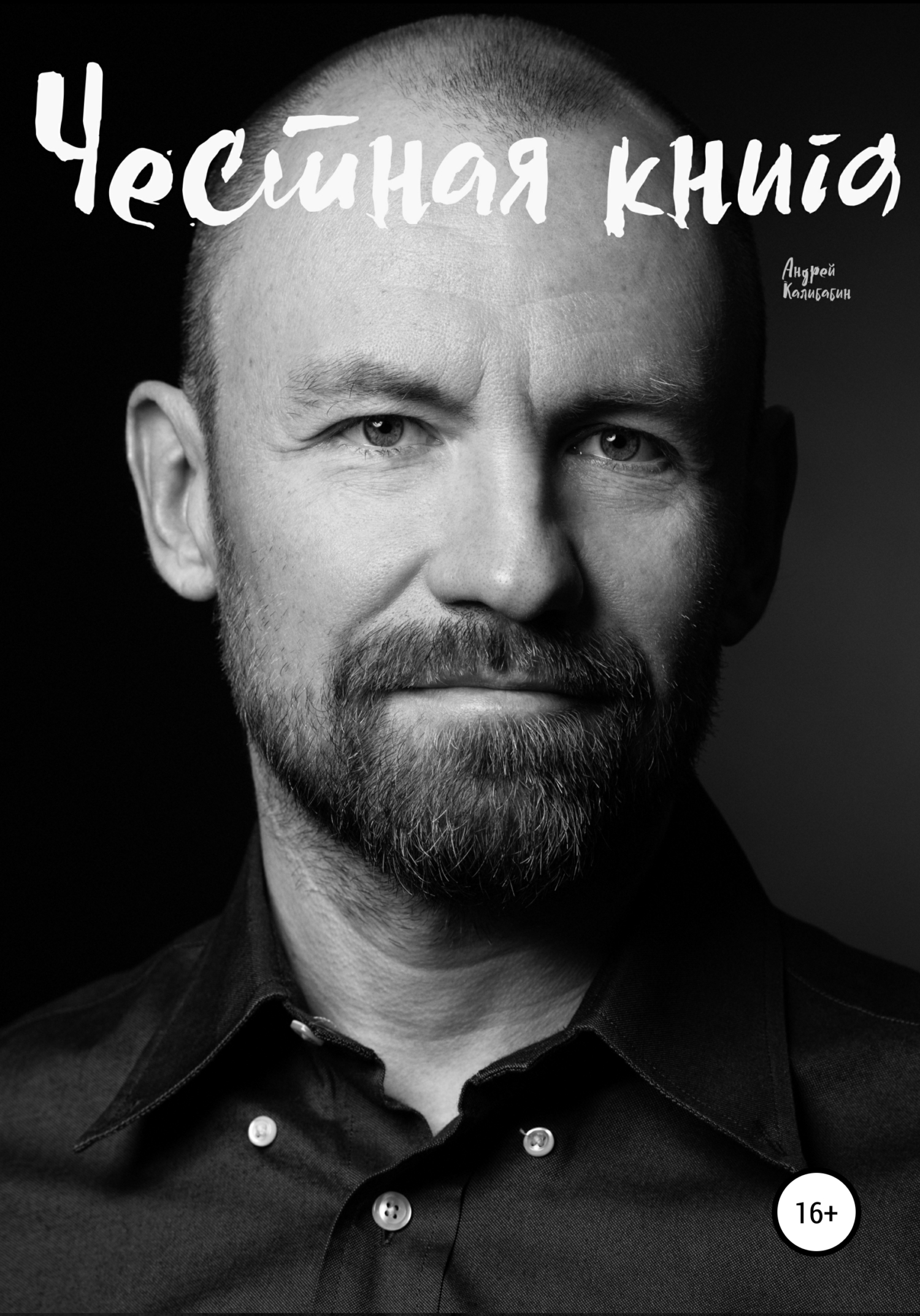Как спросили бабы про сметанку и маслице, чтобы обед немного забелить, конечно, чтобы блин в святой день помазать, так он и сказал: забудьте, бабки, грит, про сметанку и маслице... Вот так и сказал правду горькую...
— Да что он, сдурел? Глупость это, бессмыслица. Не может быть, чтобы он такое говорил!
— Может оно и не может быть, а вот он сказал. Забыл и сказал правду... И газетку уставную мы читали, так и в газетке то самое: за хату — аренду, за сарай — аренду, а прибыль всю в фонды...
— Ну и наговорил же вам кто-то, ну и наговорил. Чушь все это.
— Кто ж его знает? Газетка ведь пишет...
— Да где вы ту газетку видели, кто ее читал?
— Читали. Возле мельницы, вот на днях...
Оба замолчали. Панас оперся локтями на стол и смотрит перед собой на чистую выбеленную скатерть. Он думает, что на собрании необходимо сказать и про аренду и про фонды. В хате тихо. А за стеною ползают глухие шорохи ветра. Мокрые пухлые снежинки облепили окно и тают. По стеклам тонкими струйками стекает вода. На мокром стекле, залепленном снаружи снегом, красивыми удивительными узорами искрится свет от лампы. От этого ночь за окном кажется еще более темной.
В печурке трещит, пылая, еловая щепа. Искры пробиваются сквозь щели в дверцах, вылетают наружу. В хате от печурки теплынь и немного угарно. От усталости ноет тело Панаса, ноют натруженные ноги, а теплынь так приятно окутывает тело и со сладкой дремотой, как бархатом мягким, укрывает его. Панасу хочется лечь на лавку и уснуть.
В стену у окна мелко, часто стучит ставня и тихо тоненько пищит ржавыми петлями:
— Пи-ги-ги-и... пи-ги-ги-и...
— Устал,— говорит Панасу хозяин.— Ходишь все по людям, мало, видать, спишь...
— Нет, ничего, сна хватает,— ответил Панас и шевельнул плечами, незаметно потянулся.
— Собрания, верно, не будет. Петро где-то как сел, так и прикипел...
— Да оно так,— добавила с печи старуха,— пошли дурного, а вслед другого...
— А может собрание там,— неожиданно с кровати отозвалась Галина и поднялась.— Идем, я покажу, где это...
Она надела пальто и ждала Панаса. Выходя из сеней, предупредила:
— Не упади, порог у нас высокий, крыльца еще нету... на бревно становись.
— Не упаду, я еще хорошо вижу...
На дворе влажная густая темнота, едва видна светлая серость заснеженной земли. Галина быстро перешла двор и пошла по улице впереди Панаса. Дорога на улице неровная, узкая, нельзя идти рядом двоим. Ноги скользят и попадают в колеины от полозьев. Панасу неудобно, что он спотыкается, но он пробует идти рядом с Галиной. На улице Галина чувствует себя с Панасом свободнее, она больше разговаривает и пробует шутить. Говорит она тоном серьезным, словно приказывает Панасу, как младшему.
— По дороге иди за мной,— говорит она,— а то неровно, упадешь еще, ногу вывихнешь.
— Ничего. Мне стыдно, что ты меня, как маленького, ведешь...
— Потому что я дорогу знаю, а ты, наверное, все здешнее позабыл, не то что дорогу...
— Кое-что помню, не все позабыл...
Галина ничего на это не ответила. Тогда Панас спросил:
— Ты думаешь, что собрание там?
— Ничего я не думаю,— игриво ответила Галина и более серьезно добавила: — Вряд ли есть собрание. Наши на собрание не пойдут. Почему? Условились между собой. Они теперь сено тайком продают, картофель из буртов достают, боятся все, что сгонят в колхоз, торопятся продать все. Ночью кабанов колят и смалят.
В хате, где обычно собирались сходки, света уже не было, и Галина остановилась на улице.
— Неужели спят уже? Что-то темно в хате.
Она подошла к окну и постучала. Никто на стук не отозвался. Прислонившись к самому стеклу, Галина громко, чтобы ее услышали, спросила:
— Собрания у вас не было?
— Нет. Камека был, поссорился с бабами и ушел.
— А мой был?
— Был, тоже ушел.
Галина отошла от окна.
— Ничего, значит, не будет. Теперь пойдем домой.
По пути пошутила:
— Не боятся тебя наши, ничего ты с ними не сделаешь.
— А разве надо, чтоб боялись?
— Вот же надо... а ты разве другого не хотел бы?
— Гм... я хотел бы, чтоб меня любили, например...
— Ого, какой ты. Чтобы все тебя любили? Захотел...
— Пускай не все. Хоть бы кто-нибудь.
— А может кто-нибудь и любит?
— Вряд ли. Где там!
Галина больше ничего не сказала. Она шла молча до самого своего двора. У калитки Панас остановился, чтобы попрощаться.
— Ночуй у нас, теперь очень поздно, страшно.
— Спасибо, я пойду домой.
— Темно. Будешь бояться.
— Я не из пугливых.
— Ну, как хочешь, упрашивать я тебя не буду. Я вот только еще об этом хочу сказать. Наши разошлись, но это ничего, некоторые есть, что и пойдут. Разошлись потому, что не разбираются еще в этом. Я и сама толком еще не разбираюсь, что-то пугает, как подумаю, как это оно все тогда будет. Вот слушаю тебя и понимаю, но пугает что-то. А у нас же все такие темные еще. Ходили, говорили, пугали сами себя, а тут еще бумажка эта страху поддала, вот и разошлись... Так что ты нас не оставляй, еще уломаешь, тебя они послушаются.
— Да уломаем, я иначе не думаю. А ты, когда собрание будет, поддержи меня.
— Я-то поддержу...
Галина стояла у калитки, пока не растаяла в темноте улицы фигура Панаса и замолкли шаги, потом торопливо пошла к сеням.
* * *
Панас остановился и прислушался.
Где-то в ночи запели колокола. Торжественные и тревожные плыли их голоса.
Блям-бо-о-ом... блям-бо-о-ом... блям-бо-о-ом...
Звонили по очереди. Кратко, тонким голосом вызванивал свое меньший, и не успевал еще замолкнуть его голос, как вслед, тяжело вздыхая, гудел большой. На минуту голоса их сплетались в общий протяжный гул, но вскоре опять расходились, плыли друг за другом и терялись, глохли во влажном воздухе.
Панаса колокола словно разбудили. До этого он шел медленно и сквозь дрему, окутывавшую его, о чем-то думал. А вот донеслись голоса колоколов, прервалась тонкая нить медленных легких дум, и они пропали. Панас уже даже не помнил, о чем он думал. Отвернул воротник пальто, поднял шапку и, вглядываясь в темную даль поля, напрягал слух, хотел угадать, откуда плывут голоса колоколов. Но опять наплывало забытье, и сами слипались глаза.