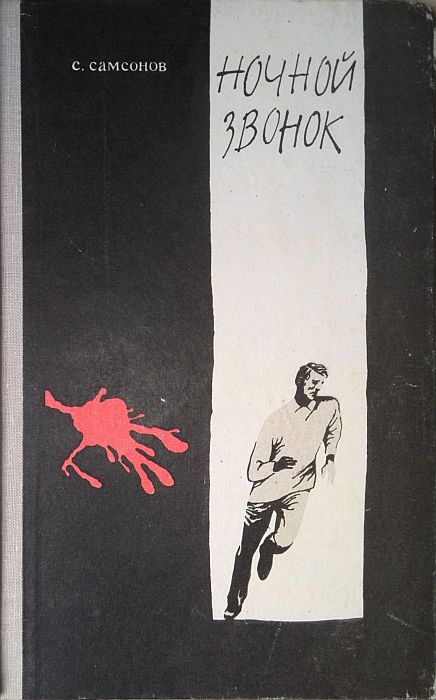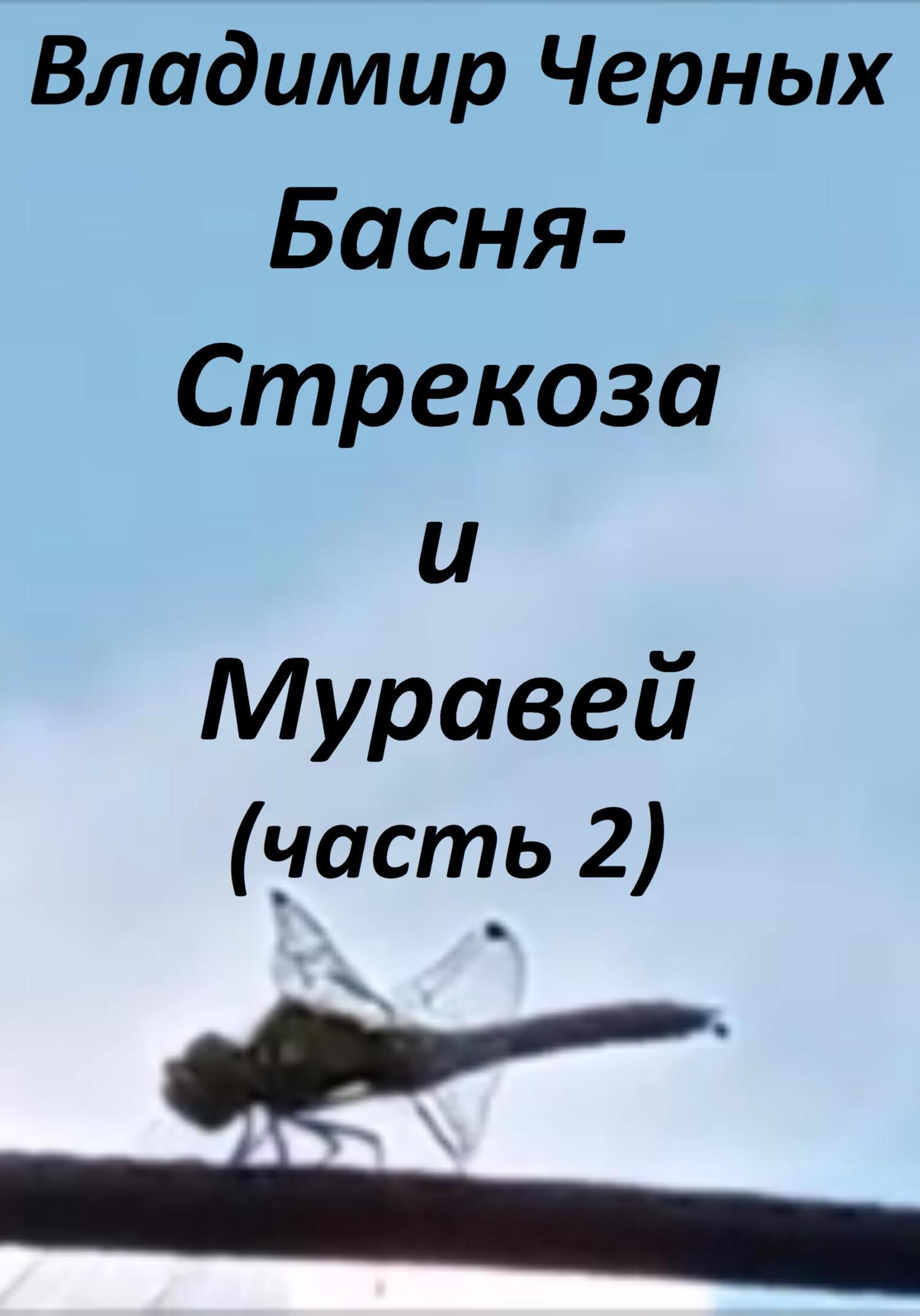кто у селектора, дежурный мигом посерьезнел:
— По разрешению диспетчера, товарищ начальник.
— Диспетчера, диспетчера! — проворчал Башлыков. — Самим, между прочим, тоже соображать надо. Чем маневровый занят?
— Как чем?..
И дежурный начал докладывать, какие необходимы перестановки вагонов на станции и у пакгаузов, что придется подать на подъездные пути и что взять оттуда. Перед глазами Глеба стояла станция Вязовка с ее двум я ответвлениями — на элеватор и в совхоз. Он видел, где находится сейчас каждый вагон, представляя себе каждый рейс маневрового паровоза, и был убежден, что операции уплотнены до предела и никакого просчета не допущено. Зря, что ли, Лямин с такой похвалой отозвался о дежурстве! Но разве Башлыков бывает когда-нибудь доволен? Да он просто не может не придираться, не брюзжать, не крутить носом. Его отношение к диспетчерскому аппарату отделения выражается примерно так: «Хорошо командовать участком смог бы только я, сносно вести дело способны два-три старых заслуженных диспетчера, а остальные — неучи и недотепы».
Вязовка закончила доклад. Глеб представлял, как дежурный по станции, взволнованный, напряженный, стоит у аппарата и как притаились, застыли все, кто оказался в этот момент около него.
Над диспетчерским столом, на всю длину его, в рамке под стеклом — профиль |пути и схемы станций. Башлыков внимательно посмотрел на схему Вязовки, помолчал, потом скомандовал:
— Заберите в совхозе крытый порожняк и немедленно отправляйте маневровый в Ямскую.
Выключив селектор, начальник движения снова склонился над графиком.
— По пустякам копаетесь в Вязовке, держите маневровый сутки, — ворчал он.
Глеб кипел. Что ни слово Башлыкова — так вопиющая несправедливость. Целые сутки! Разве сутки? И почему «копаетесь»? Почему «по пустякам»? Разве Глеб или дежурный по Вязовке виноваты, что накануне на станции накопилось много вагонов?
— Что слышно с лесокомбината?
— Товарищ Лямин… — начал Глеб, но Башлыков оборвал его:
— Знаю, что Лямин звонил. А вы? Вы сами какие меры приняли?
— По-моему, в обязанности поездного диспетчера не входит…
— Что не входит?
— Звонить клиентуре. Кому же тогда заниматься движением поездов?
Башлыков зло взглянул на диспетчера и, ничего не ответив, вызвал междугородную.
— Ямскую. Директора лесокомбината!
Линия оказалась занятой.
— А, черт, когда вам ни позвони; вечно у вас занято. Как освободится, соедините. Я буду у себя.
Бросил на рычаг трубку, повернулся к Глебу и медленно, отчеканивая каждое слово, сказал:
— Пора усвоить, что диспетчер должен обеспечить четкую работу участка. Он не попугай, а руководитель. И у него, между прочим, должна голова работать. А если голова не варит, так нечего на диспетчерский круг садиться.
С этим и вышел.
Глеб в сердцах так швырнул карандаш, что тот, отскочив от стола, едва не вылетел в окно. Сколько еще можно терпеть?! Никакого уважения к людям! Хуже — самодурство какое-то! Ну, нет уж, довольно! Завтра — производственное совещание отдела эксплуатации, и завтра надо выложить все. Пора начать серьезный разговор, разговор начистоту. И он, Глеб Абакумов, начнет его. Он начнет его так…
— Диспетчер! — снова прозвучало в репродукторе.
— Я диспетчер.
— Дежурный по Рябинихе говорит.
— Слышу.
— Пятьсот сорок седьмой прибыл в десять пятьдесят одну, — не спеша, густым, трубным голосом доложил дежурный.
— На сорок минут опаздывает, чтоб ему!
Пятьсот сорок седьмой — это товарный состав. На пятки ему наступает пассажирский. Значит, надо где-то пропустить пассажирский вперед, а товарняк задержать. Но где? В Рябинихе? Нет, в Рябинихе нельзя — туда с противоположной стороны тоже пассажирский запросился. В Ямской? И думать нечего. В Ямской и без того трудно, недаром же Башлыков тарарам поднял. Где же?..
Дежурный по Рябинихе пробасил:
— Может, нагонит пятьсот сорок седьмой-то? Я минут на десять мог бы пораньше выпустить.
— Подожди, подожди!
Что, если в самом деле попробовать? Договориться с машинистом — пусть ждет. Да нет, вряд ли получится: все время подъем, кривые — тяжелый участок. И в Чибисе набирать воду. А что, если не набирать? Если Чибис с ходу?
— Рябиниха? — позвал Глеб.
— Слушаю, — прогудел репродуктор.
— Позовите машиниста пятьсот сорок седьмого.
— Сейчас.
Еще поддержит ли машинист? Разве он виноват, что поезд давно выбился из графика? С какой же стати он согласится Чибис без набора воды проскакивать? Как-никак риск..
Абакумов позвонил паровозному диспетчеру:
— Кого с пятьсот сорок седьмым отправил?
— Касьянова…
— Касьянова! Ну, брат, спасибо!
Хоть тут повезло — машинист попался хороший. Интересно, какой состав? Абакумов глянул на отметки о-весе и длине пятьсот сорок седьмого и снова помрачнел — на четыреста с лишним тонн выше нормы. На таком трудном участке, с таким составом и Касьянов не ликвидирует опоздание.
— Касьянов слушает, — раздалось в репродукторе.
Голос у машиниста спокойный, ровный и внушительный — голос человека, привыкшего к уважительному к себе отношению.
Глеб замялся..
— Есть у меня одна мысль..
— Ну, ну, что такое?
— Не знаю, правда, выйдет ли…
Неуверенный тон Абакумова меньше всего напоминал ту грубоватую, официально-жесткую манеру разговора, в какой обычно обращаются диспетчеры к машинистам. Но именно это обеспокоило умного Касьянова, и он уже по праву более опытного и старшего годами твердо потребовал, чтобы Глеб разъяснил свое предложение. Выслушав, помедлил немного с ответом.
— Что ж, постараюсь. Только уж давайте и Чибис и Вязовку — с ходу.
— И Вязовку? Здорово!.. Хорошо, обещаю зеленый в Вязовке.
Вспомнилось башлыковское: «А если голова не варит, так нечего…» Ожесточение вспыхнуло с новой силой. «Это у вас, товарищ Башлыков, не варит. Пришли, наорали и думаете, что обеспечили руководство? Ну, ничего, товарищ начальник, диспетчер Абакумов еще покажет себя — и здесь, у селектора, и там, на совещании».
* * *
Подруги удивились:
— Ты хочешь идти в этом платье?
— Да, в этом. А что? — Таня оправила белый воротничок на стареньком синем платье с форменными пуговицами, которое осталось у нее еще от ремесленного училища.
Подруги переглянулись, ничего не сказав, но лицо каждой яснее ясного говорило: «Поступай как хочешь, я бы оделась по-другому».
Таня задумчиво улыбнулась и посмотрела на два своих выходных платья, которые она вынула из шифоньера и повесила на спинку кровати. Одно совсем новое, из крепдешина. Деньги на него копила почти четыре месяца. И как повезло — попался именно такой фасон, о котором мечтала. И расцветка по душе — не очень пестрая, не кричащая, но достаточно яркая. Второе платье хотя и подешевле, но зато особенно любимое. Купила его на первые свои заработки после окончания ремесленного. И как раз премировали тогда. Хорошо поработала на выпуске манометров специального назначения. Денег все-таки собралось маловато, и когда примеряла платье в магазине, все боялась, что не хватит расплатиться. А купить очень хотелось. Волновалась