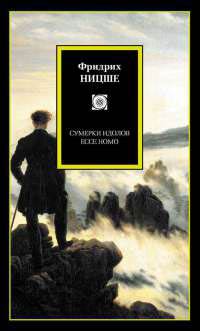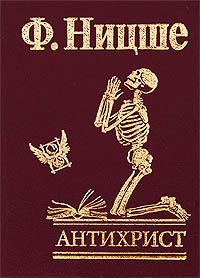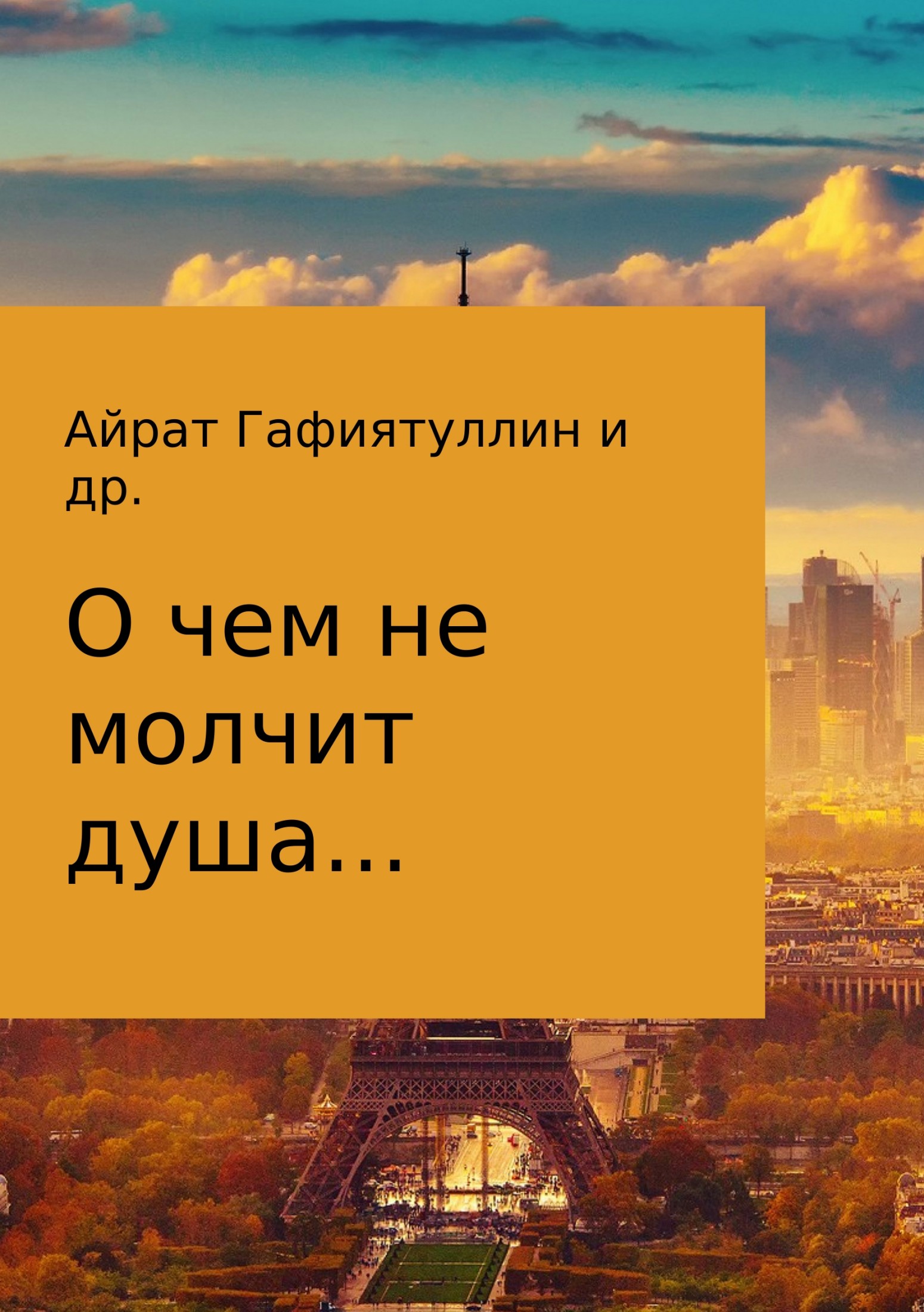и танец волновали листву ильмов и платанов.
Ах! Мне надобно было более, чем это. Эго не спасало от смерти. Погруженный в свои черные думы, я нечаянно забрел в сад Горгонды Нотары[7], моего знакомца.
Шорох у бокового входа заставил меня вздрогнуть.
И тут мне — мне! с моим мучительным сознанием одиночества, с моим безрадостным, кровоточащим сердцем, — явилась она: вся прелесть и святость, будто весталка стояла она там передо мной; будто соткана из аромата и света, так нежна и так прозрачна; над улыбкой, исполненной тишины и ангельской кротости, в божественном величии царил ее вдохновенный взор, и, как облака перед рассветом, играли в весеннем ветре золотистые кудри, обрамляющие чело.
Мой Беллармин! если б я мог передать тебе полно и живо то несказанное, что произошло во мне! Куда девалась мука моей жизни, ее тьма, ее нищета, вся ее жалкая бренность!
Да, из всего, что вмещает в себя неисчерпаемая Природа, такой миг освобождения — высочайший и блаженнейший дар! Он стоит эонов нашего растительного существования! Моя земная жизнь прервалась, время застыло, мой дух восстал из мертвых, и разорвал оковы, и понял, откуда он родом и кто ему родня.
Много лет прошло с тех пор; вёсны сменяли друг друга; не раз прекрасные картины природы, драгоценные реликвии твоей Италии, сотворенные небесной фантазией, радовали мой взгляд; но почти все исчезло, стертое временем; лишь ее образ остался во мне и все то, что сродни ему. Все стоит она передо мною, как в тот священно-пьянящий миг, когда я обрел ее; я прижимаю к пылающему сердцу этот сладостный призрак, я внимаю ее голосу, лепету ее арфы, — будто мирная Аркадия, где цветы и зеленые всходы нежатся в вечно спокойном воздухе, где без полдневного жара зреет урожай и сладко плодоносит виноградная лоза, где страх не окружает стеной защищенную землю, где в мыслях у всех — лишь весна без конца и края, лишь безоблачное небо, и его солнце, и его дружелюбные созвездия, — так стоит это все, раскрытое, передо мной, святая святых ее сердца и духа.
Мелите, о Мелите![8] Неземное создание! Хотел бы я знать, вспоминает ли она хоть изредка про меня. Быть может, она меня жалеет. Но я найду ее; в какой-нибудь период вечно текущего бытия[9] я снова увижу ее. Да! То, что сродни себе, не может бежать своего вечно.
Да, бог, пребывающий в нас, всегда одинок и беден. Как собрать ему всех своих? Тех, что были некогда здесь и когда-нибудь будут. Когда произойдет великая встреча всех духов? Ибо некогда были мы все, я думаю, вместе.
Доброй ночи, Беллармин, доброй ночи!
Завтра я спокойнее продолжу свой рассказ.
Занте
Вечер того дня моих дней со всем, что я еще мог воспринять в своем опьянении, для меня незабвенен. То был бесценнейший дар из всех, что земле дарует весна, и небо, и его свет. Сияющим ореолом окружила ее вечерняя заря, и нежные золотистые облачка в вышнем эфире улыбались ей, как небесные гении, что радуются своей сестре на земле, а она шла среди нас во всем обаянии своей духовности — и притом как добра, как приветлива была она ко всему, что было с ней рядом![10]
И все стремилось к ней. Будто каждому уделила она частицу своего существа. На всех опустился новый дух нежности, снизошла атмосфера сладкой доверительности, в которой забываешь себя.
Без расспросов узнал я, что она родилась на брегах Пактола, в уединенной долине Тмола[11], куда отец ее, удрученный нынешним состоянием греков, переселился много лет назад из Смирны, чтобы там предаться мрачному унынию, а что мать ее, некогда краса и гордость Ионии, доводится родственницей Горгонде Нотаре.
Нотара пригласил нас провести вечер у него под деревьями, а нам всем, в нашем тогдашнем настроении, и думать не хотелось о том, чтоб расходиться по домам.
Постепенно одушевление все больше овладевало нами. Мы много говорили о прекрасных детях древней Ионии, Сапфо и Алкее, и Анакреоне[12], но более всего о Гомере, его могиле на Нио[се], о недалеком гроте в скалах на берегу Мелеса[13], где божественный проводил праздничные часы вдохновенья, и о многом другом; и так же, как обступившие нас приветно деревья сада, с которых, освобожденные дуновеньем весны, слетали на землю лепестки, наши души, каждая на свой лад, раскрылись навстречу друг другу; и даже самые бедные внесли свою лепту. Несколько ангельских слов промолвила Мелите — безыскусно, бесхитростно, в чистейшей святости простоты. Я слушал ее речи, и мне припомнились картины Дедала, о которых Павсаний[14] говорит, что при всей простоте в их облике было нечто божественное.
Долго сидел я молча, впивая небесную красоту, что проникала в мою душу, как лучи утреннего света, и возвращала к жизни омертвевшие ростки моего существа.
Под конец речь зашла о чудесных примерах дружбы древних греков — о Диоскурах[15], об Ахилле и Патрокле[16], о фаланге спартанцев, о всех тех любящих и любимых, что пришли в мир и ушли из него согласно, как вечные светильники неба.
И тут я очнулся. «Об этом нельзя говорить!» — вскричал я.
«Такое великолепие убивает нас, бедных. Да, то были дни золотого века, когда люди обменивались оружием и любили друг друга до гроба, когда в опьянении любовью и красотой зарождались бессмертные дети и подвиги во имя отчизны, небесные песнопения и вечные слова мудрости, — ах, это тогда египетский жрец упрекнул Солона: „Вы, греки, — вечные юноши!“ Мы же стали старцами, мы мудрее, чем все те блистательные, давно ушедшие; жаль только, что и сила оскудела в этой чуждой стихии!»
«Позабудь об этом хотя бы сегодня, Гиперион!» — воскликнул Нотара, и я признал его правоту.
Взгляд Мелите остановился на мне, серьезен и открыт. Кто бы не позабыл все на свете!
По дороге в город я шел с нею рядом. С силой прижимал я рукой свое трепещущее сердце, подавляя нараставшее смятение, чтобы быть в силах говорить.
О Беллармин! Как понимал я ее и как она тому радовалась! Целый мир рождало во мне случайное ее словечко! Подлинное торжество духа над всем малым и мелким была она, безмолвное соединение нашей мысли и нашей поэзии.
У дома Нотары мы простились. Мне казалось, я упаду под напором неистовой радости, я бранил себя и смеялся над малодушием своего сердца в минувшие дни и с