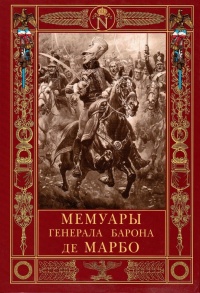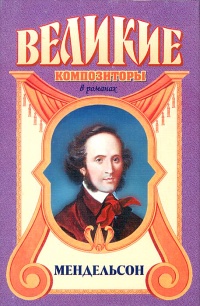1085 году, в месяц сбора винограда, в ту самую пору, когда в виноградниках, что карабкаются по склонам наших Севенн, течет сладкое вино цвета человеческой крови. В книгах записи рождений указано было, что 18 октября 1685 года у Давида Шабру и жены его Элоди Вергуньюз родился сын, коему при крещении, совершенном 12 ноября того же года пастором Камбадеседом, нарекли имя Самуил, восприемниками же от купели были Самуил Ребуль и Леония Сарацинка.
Отец мой жил на хуторе Гравас, так же как жили там мои деды и прадеды, о чем постоянно я слышал, и все исповедовали протестантскую веру, ту самую, что привилась во Франции. Никогда я не слыхал, чтобы в нашем роду был хоть один католик или приверженец какой-либо другой церкви, но в 1685 году, как известно, король с помощью драгунов, католического духовенства и палачей принудил весь свой народ, обитающий в Севеннах, принять католичество.
Наследственное достояние наше не очень-то велико, но все же мои близкие, люди трудолюбивые, жили в достатке, ибо имели они коз, собирали каштаны, разводили шелковичных червей, возделывали виноградники, держали пчел да еще и рыбу в реке ловили.
Позднее узнал я, что моим родителям и восприемникам пришлось окрестить меня по нашей вере втайне, словно совершая некое преступление, ибо с той поры всякий, кто вступал в жизнь без католических кривляний, подвергался тем самым опасности лишиться жизни.
После принудительного крещения католическим попом в нашей деревенской церкви мои родители вместе с крестным отцом и матерью, лишь только виноград был собран, потихоньку отнесли меня в городок Женолак, где пастор Камбадесед поджидал их в сарае, дабы окрестить меня по обрядам нашей религии. Сей бедный пастырь наш и отметил, что я вступил в земную жизнь в тот самый день, когда король подписал ордонанс об отмене Нантского эдикта{2}. по священник тотчас же указал, что было бы опасно давать поспешное истолкование такого совпадения».
Мне в день крещения моего было всего лишь двадцать четыре дня от роду, но, когда я подрос, матушка столь часто и столь подробно рассказывала мне о крестинах моих и особых приметах, с ними связанных, что мне теперь кажется, будто я с помощью духа свята все те обстоятельства помню сам по себе. Право же, я так и вижу, как родные мои, возвращаясь в глухую ночь из Женолака, спускаются по горной дороге к нашей милой долине Люэк. Вдруг матушка просит, чтобы малый их отряд сделал привал: придется ей покормить меня, и она удивляется, что я прежде времени проголодался да еще требую себе пищу столь громкими воплями; в простоте душевной она все сие приписала первому в моей жизни путешествию в холодную ночь.
— Темно было, как в погребе, — всегда добавлял в этом месте ее рассказа мой крестный, старик Ребуль.
Звезды прячутся, когда гора Лозер надевает на макушку темную шапку, а он, наш старый великан, не любит стоять поздней осенью с непокрытой головой. Для привала нашли укромный уголок, защищенный скалами, хорошо известный пастухам; убежище сие было расположено под уступом горы, а саженей на двадцать ниже, под отвесной кручей, на перевале стояла харчевня «Большая сковорода». Тотчас бережливая Леония Сарацинка задула свечу в потайном фонаре, и моей родительнице пришлось ощупью устраиваться в гранитном пристанище, недоступном свирепому северному ветру. Лишь мой крестный отец стоял на страже у входа, храбро выдерживая стужу, и только плевался с досады на нее.
* * *
Взметнулся и прыгнул Зверь, притаившийся во мраке.
Раздались крики — тут, там, бой барабана, замелькали огни, зажглись факелы, запылала солома, вспыхнули костры. Все это уже было хорошо знакомо. Драгуны, ехавшие в горы из Шамбориго, и драгуны, спускавшиеся из Конкуля, — словом, два войска, ехавшие с противоположных сторон Регорданы — Большой королевской дороги, — встретились на полпути и остановились у харчевни «Большая сковорода». Они входили в харчевню, вытаскивали оттуда столы, лари, скамьи, кровати, сваливали их на площади грудами, — в харчевне всякого скарба было много, дела ее шли хорошо, недаром же стояла она у проезжей дороги.
Мой отец, Леония Сарацинка и матушка, кормившая меня грудью, шепотом читали псалом LXIX. В ужасе произносили они нараспев:
Ненавидящих меня без вины,
Больше, нежели волос на голове моей.
Браги, преследующие меня несправедливо, усилились
И только старик Ребуль полон был ненависти и, дергая свою бороду, бормотал по обыкновению своему: «Поплатятся они! Поплатятся!..»
Тогда лишь он один вопиял о мести, он первый провозгласил ее, призывал к ней, а в те времена наши братья еще всходили на костер и радостно, готовясь принять мученический венец, пели хвалы господу, в те времена агнцы Христовы безропотно предавали себя волкам — то были времена беззащитных мотыльков, лишь недавно миновавшие времена. Но хоть тогда и вошло в пословицу «гугенотское терпение», старик Самуил, мой крестный, требовал мщения — «око за око, зуб за зуб». Как он тогда пугал здешних кротких людей, которые с тех пор так и прозвали его: «Поплатятся».
Было мне в тот день меньше месяца, я сосал грудь матери, помнить я ничего не мог, и об ужасах, свидетелями коих оказались мои родители и крестный отец с матерью, я рассказываю, побуждаемый дальнейшим своим житейским опытом, — ведь достаточно переменить имена, и будет все та же, хорошо всем известная картина. Зверь набросился на Пассевенов (хозяев харчевни) и на Бартавелей, живших по соседству с ними на другом склоне лощины. Дочери Пассевена — Элиза, Эдоди Маргарита и Мари (старшей было двадцать лет, а младшей пятнадцать), — девушки до того пригожие, что возчики нарочно делали крюк, чтобы заглянуть в эту харчевню, и до того скромные, что проезжие молодцы могли лишь полюбоваться на них, не позволяя себе никаких вольностей, красавицы Пассевенеточки, как их называли, а вместе с ними и Мари-Жанна Бартавель и сестра ее Марта были в ту ночь изнасилованы многими королевскими драгунами, и насильники после того еще для потехи мочились им на лицо и палили их, обнаженных, над