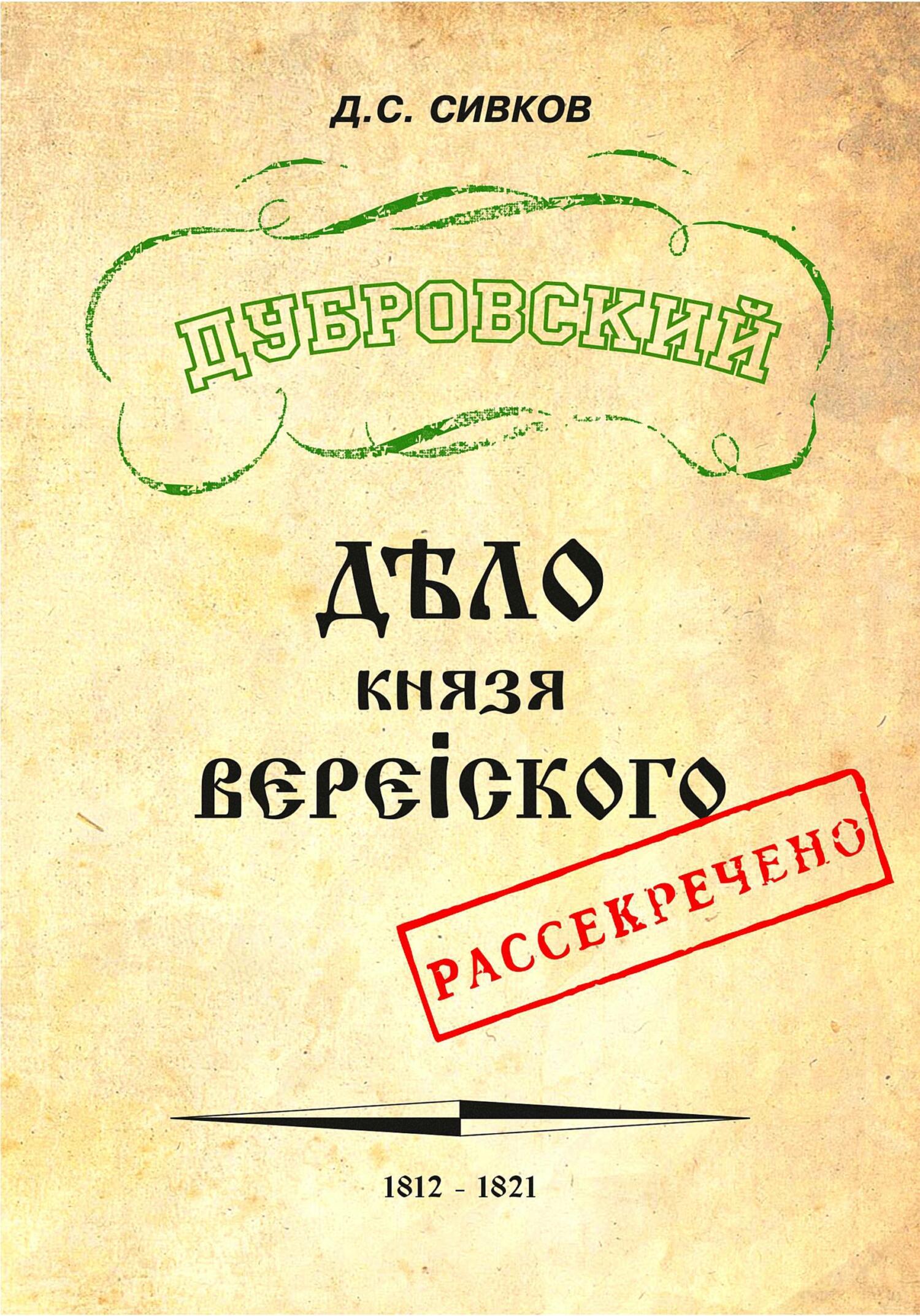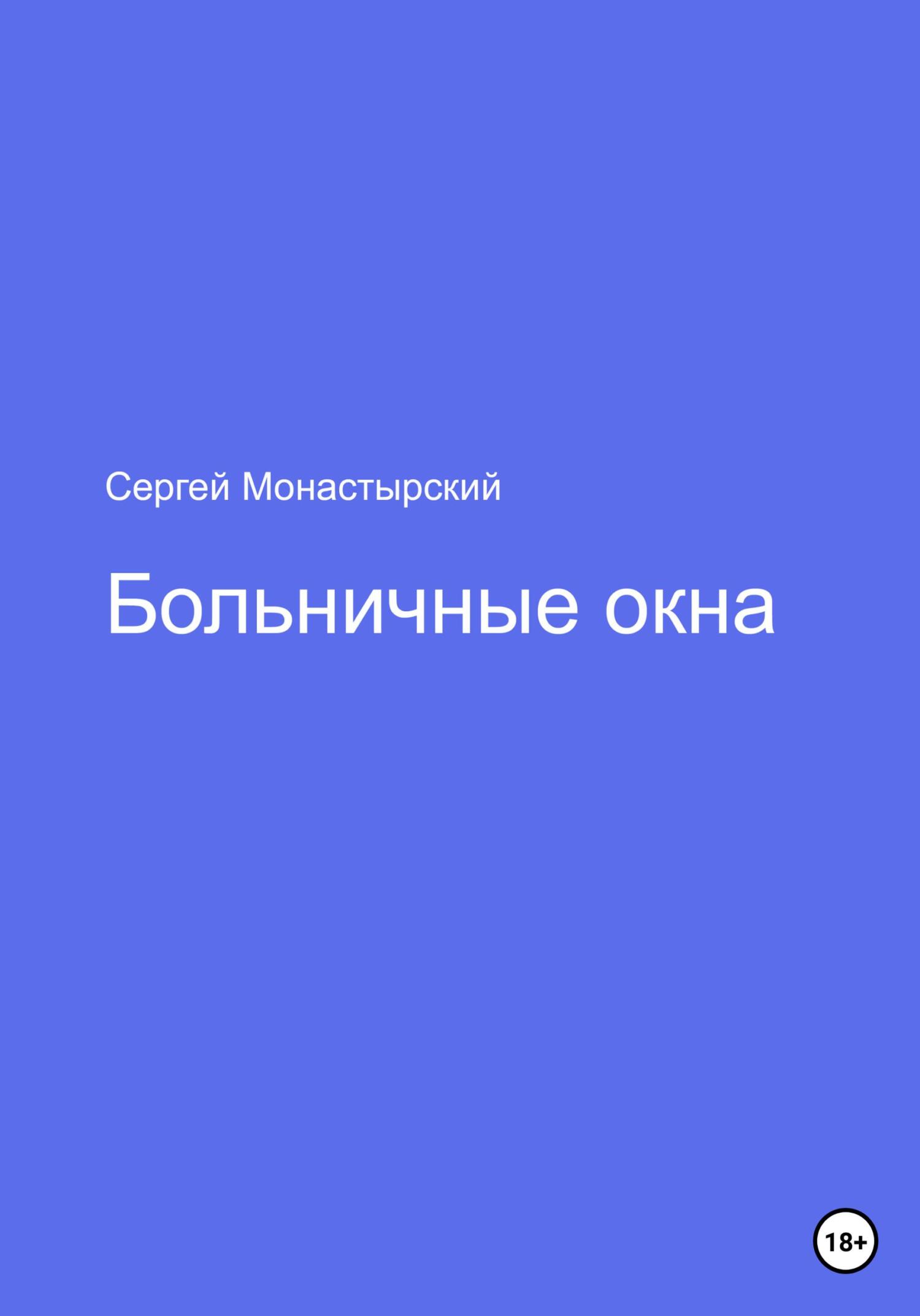насквозь, от первого номера дома до последнего.
В блиндаж вошел дежурный по штабу.
– Покажи-ка, – и командующий протянул руку к пачке донесений и шифровок, не давая дежурному доложить по форме. – Тринадцатая гвардейская поступила в мое распоряжение, выходит к Волге, – торжественно и внятно сказал он. Все склонились над телеграммой.
– Черт! – сказал командарм и вскочил на ноги. – Сегодня приступим к переправе. Эх, если бы вчера! Не пустил бы я его так далеко в город! Оставшимися танками выйду на набережную, обеспечу переправу. С передовой, из боевых частей ни одного человека не сниму! На танки посажу работников штаба.
– Дивизия полнокровная, – проговорил начальник штаба, – она, думаю, восстановит положение, которое минуту назад я считал совсем скверным.
– Родимцев меня спасать пришел, – усмехнулся командарм.
Три события были весьма важны в первой половине сентября 1942 года для Сталинградской обороны: наступление советских армий северо-западней города, массирование тяжелой артиллерии на левом берегу и переправа на правый берег новых дивизий, в первую очередь родимцевской дивизии.
Бои, завязанные по приказу Ставки северо-западней Сталинграда, отвлекли от города большие силы немцев и итальянцев. Это и дало возможность продержаться до подхода подкреплений в те раскаленные минуты, когда немецкое командование готовилось объявить о занятии Сталинграда.
23
Дивизия Родимцева переправлялась через Волгу с ходу. Батальоны сгружались с машин, и тут же на берегу, у самой воды, старшины взламывали патронные ящики, вспарывали мешки с сухарями, разбивали прикладами ящики с консервами, раздавали людям патроны, гранаты, запалы, сахар, концентраты.
И тут же на берегу политруки рот и полковые агитаторы по указанию комиссара дивизии зачитывали приказ Военного Совета № 4: «Стоять насмерть!», раздавали газету «Красная звезда» от четвертого сентября с передовой статьей «Отбить наступление немцев от Сталинграда», проводили короткие пятиминутные беседы о фактах героизма, рассказывали о бронебойщиках Болоте, Олейникове, Самойлове, Беликове, уничтоживших пятнадцать танков в одном бою.
И тотчас же повзводно, поротно красноармейцы грузились на катера, баржи, паромы, и шуршание шагов по мокрому песку сменялось дробным сухим тарахтением сотен тяжелых сапог по палубным доскам – казалось, погрузка людей идет под негромкую, тревожную дробь барабанов.
Рваный желтый туман стлался над водой – это у причалов жгли дымовые шашки. А сквозь дымку виден был город, освещенный солнцем; он стоял над обрывом – белый, узорчатый, зубчатый, издали нарядный и живой; казалось, нет в нем хижин, одни дворцы… Но было в нем что-то необычайное и страшное: город стоял онемевший и слепой, стекла не блестели на солнце, и сердца солдат тревожно угадывали пустоту за белым узором безглазого, ослепленного камня.
День был светел, солнце с беспечной щедростью и весельем дарило своим богатством все малое и большое на земле.
Тепло солнца входило в шершавые борта лодок, в мягкие натеки смолы, в зеленые звездочки пилоток, в диски автоматов, в стволы винтовок. Оно грело кобуры командирских пистолетов, глянцевую кожу планшетов, пряжки ремней. Оно грело быструю воду, и ветер над Волгой, и красные прутья лозы, и печальную желтую листву, и белый песок, и медные снарядные гильзы, и железные тела мин, ждущих переправы.
Едва первый эшелон достиг середины реки, у причала загремели зенитки, и тотчас с юга на север, отвратительно каркая пулеметными очередями, с воем пронеслись над самой Волгой меченные черным крестом желто-серые «мессеры».
Поворачивая тощее желтое пузо, ведущий самолет круто развернулся и снова, воя, каркая, устремился к рассыпавшимся по реке понтонам и баржам. А вскоре в воздухе зашелестели, запели на разные голоса снаряды и мины и зачмокала вспаханная разрывами вода.
Тяжелая мина угодила в небольшой понтон, его на мгновение закрыло грязным дымом, огнем, сеткой брызг, и на других понтонах и баржах увидели, когда рассеялся дым, как молча тонут оглушенные и искалеченные взрывом люди: подвязанные к поясу гранаты, набитые патронные сумки тянули ко дну.
Потрясенные красноармейцы смотрели на гибнущих, а понтоны, баржи, катера все шли к правому берегу.
Дивизия приближалась водой к Сталинграду, и как передать то, что чувствовали и о чем думали тысячи людей, вступив на баржи, глядя на увеличивающуюся текучую полоску воды между плоским берегом Заволжья и бортом, слушая тревожный плеск волны и пение мин, всматриваясь в выплывавший из дымки белый город.
В эти долгие минуты переправы люди стояли молча, редко кто-либо произносил слово. В эти минуты люди бездействовали, они не могли ни стрелять, ни окапываться, ни кинуться в атаку. Люди думали.
Можно ли передать чувства этих многих тысяч людей? Можно ли передать то, что объединяло хаос надежд, страха, воспоминаний, любви, сожалений, привязанностей этих тысяч таких различных людей, многодетных отцов и юношей, горожан и крестьян, собравшихся сюда из сибирских деревень, с украинских и кубанских полей, из городов и заводских поселков?
24
Когда баржи отчалили, Вавилов пробрался к борту – инстинктивное чувство, заставившее его стать в том месте, которое было поближе к берегу.
После беспрерывных гудков, гула грузовиков, тяжелого топота и криков команды странной казалась вдруг наступившая тишина, лишь вода чуть слышно хлюпала у борта да минутами ветер доносил стук мотора буксирного катера.
Ветерок обдувал разгоряченное лицо, прохладная влага касалась сухих, растрескавшихся губ и воспалившихся от пыли век.
Вавилов оглядел реку, близкий, рукой подать, берег. Кругом молчали красноармейцы, озирались, как и он. Томительно медленно ползла баржа, а расстояние от берега, казалось, увеличивалось быстро – вот уж не видно песка на дне, и вода стала серой, железной. А город в белой дымке все был далеким, кажется, и за день до него не доползет баржа.
Течение сносило баржу, канат вздрагивал, постреливал от напряжения, а при развороте он ослабел и ушел в воду, и казалось, сейчас буксир резко дернет и канат оборвется, баржа поплывет вниз по течению все дальше от молчаливого города, пойдет среди тихих берегов, где лишь белый песок, птицы… Берегов не станет видно, баржа уйдет в море, и кругом будут лишь синяя вода, да небо в облаках, да тишина. И на минуту захотелось уплыть, выскользнуть в тишину, в покой, в безлюдье. Хоть на день, хоть на час отдалить войну.
Сердце вздрогнуло, буксир натянул канат, но баржа все ползла и ползла. Стоявший рядом с Вавиловым Усуров тряхнул своим вещевым мешком и сказал:
– Пустой, пара белья, мыла кусочек, ниточка да иголочка: в кулак все имущество зажать можно. Все побросал в дороге.
Он впервые заговорил с Вавиловым после происшествия с платком, и Вавилов мельком оглядел Усурова: чего это он завел разговор – мириться надумал?
– Тяжело, что ли, нести? – спросил он.