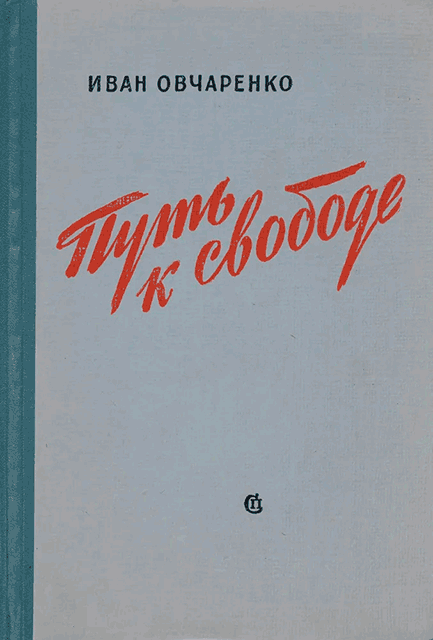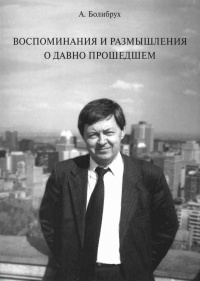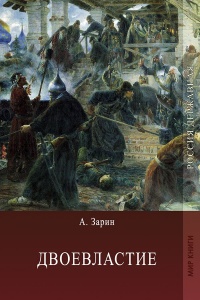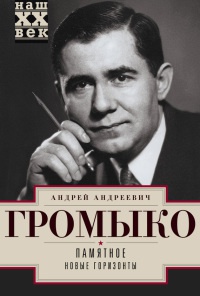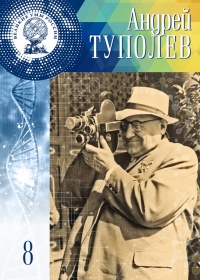моральных – материализма утилитарного и гедонического. Из всего того, что европейская философия от своих истоков до последнего времени дала самого антибожеского, аморального и низменного, он создал подпорки для своей идеологии. И не удивительно, что все его учение, при попытках осуществления в жизни, дало результаты, от которых с отвращением содрогнулся культурный мир.
Отвергая самоценность духовных начал, марксизм на практике превращается в религию озлобления и зависти.
* * *
Не будем говорить здесь об убогости тех философских подпорок, которые повел под свое учение Маркс. Модный в его время космологический материализм, по которому вселенная рассматривается как бездушный механизм движущихся материальных частиц, в настоящее время устарел, после того, как естествознание установило возможность перехода материи в энергию. Психологический материализм, утверждающий, что душевные явления – один из видов движения материи, не поддерживается ни одним из серьезных психологов. Утилитарный материализм, выводящий всю нравственность из эгоистических стремлений человека к пользе и к наслаждению, не выдерживает критики, разбиваясь о высшие ценности духовной жизни, о факты бескорыстной любви, самопожертвования. И даже гордость марксизма – диалектический метод, заимствованный Марксом у Гегеля и пристегнутый к экономике как к корове седло, сейчас вызывает только улыбку: как известно, в середине прошлого столетия ни один европеец, претендующий на образованность, не мог избегнуть того, чтобы не быть или гегельянцем, или в крайнем случае шеллингианцем. Сто лет тому назад вся европейская интеллигенция бредила тезисами, антитезисами и синтезом. Гегель был тогда эмблемой хорошего научного тона, как в наше время в науке – Эйнштейн…
* * *
Но что является в марксизме вопиющим психологическим противоречием, это – ограничение чувства собственности, обобщение орудий производства, уничтожение наследования и постепенная коммунизация общественной жизни.
Вспомним, как смотрят адепты исторического материализма на происхождение культуры. «С производством средств производства, – говорит Каутский, – начинается очеловечение животного человека. Изобретение и производство орудий, беря это слово в самом широком смысле, обозначает, что человек сознательно и намеренно сам наделяет себя новыми органами и усиливает, и удлиняет свои естественные члены». Таким образом, экономический материализм исходит из правильного понимания орудий, как искусственных «проекций» органов тела.
Но мы знаем, что именно эта «проекция» расширила у человека ощущение своего «я» путем создания чувства собственности на орудия. Человек уже с первых шагов культурной жизни искусственно включил орудия в свой организм, и потерю или лишение этих предметов стал переносить почти так же болезненно, как утерю или повреждение действительного органа тела. Нынешний европеец или американец, привыкший пользоваться автомобилем или велосипедом, аппаратом радио или телевизии, при пропаже этих предметов до некоторой степени начинает чувствовать себя инвалидом. Все доисторическое и историческое движение материальной культуры основано именно на этом стремлении человека как можно лучше «вооружиться» и «одеться» искусственным продолжением органов.
И вот, признавая за культурным человеком «наделение» этими новыми органами, исторический материализм в то же время отрицает законность расширения чувства индивидуальной собственности. Ведь, казалось бы, одно из двух: или нужно вообще отрицать благостность материальной культуры, и тогда отрицать связанное с нею развитие чувства собственности; или же необходимо считать всю материальную культуру величайшим достижением, и одновременно признавать законность стремления к индивидуальному обладанию материальными ценностями. Логически совершенно нелепо одобрять причину и не признавать следствия.
И коммунизм, таким образом, впадает в полное психологическое самоотрицание. Он обоготворяет машинную технику, придает чрезвычайное значение культурным орудиям, выводит даже все духовные ценности из ценностей материальных, зовет к развитию и накоплению материальных благ… И в то же время уничтожает стимул к этому накоплению и развитию. Ясно, что при эгоистической природе человека, да еще при официальной материалистической морали, никакого «прыжка из царства необходимости» в царство «свободы» сделать нельзя. Да еще при помощи пролетариата, представляющего собой самый ненасытившийся собственностью элемент культурного общества.
* * *
И жизнь, и логика показывают, что коммунизм – пустая мечта, особенно в обществе с высокой культурой. Не будем уже говорить о наивных попытках Иоанна Лейденского, Бабефа[570], Икарийской общины в Техасе[571]. Даже в религиозном коммунизме первых христиан, глубоко верующих, презиравших земные блага, людей, у которых, по словам Писания, «было одно сердце и одна душа», у которых «никто ничего из имения своего не называл своим», и у них находились Анании и Сапфиры[572], утаивавшие часть своего имущества, из-за которых подобное идеальное начинание впоследствии не получило широкого распространения. Как же удержаться коммунизму в среде воинствующих безбожников, выводящих мораль из пользы и сытости, основывающих социальное счастье на борьбе и ненависти?
Как болезнь, как чума, коммунизм, быть может, имеет какое-то будущее. Но как настоящий общественный строй он осуществится не может. Не перенесется Бог в самого человека, как о том мечтают марксисты, а по-прежнему останется на Небе во всей своей силе и славе.
«Россия», Нью-Йорк, 27 июля 1954, № 5413, с. 2–3.
Могучий язык
С непритворным вдохновением, с неподдельной гордостью писал Гоголь о нашем родном русском языке: «Дивишься его драгоценности… Что ни звук, то подарок. Все зернисто, крупно, как сам жемчуг… И, право, иное название еще драгоценнее самой вещи. Сам необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тона и оттенки. Язык, который сам по себе уже поэт…».
Не менее восторженно говорил о нашем языке и Тургенев: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»
Все мы хорошо помним эти чудесные слова. Иногда даже их декламируем. Особенно – на днях русской культуры.
Но, к сожалению, в обычные будние эмигрантские дни, вне годовщин смерти Пушкина, Гоголя, Достоевского, отношение наше к своему «могучему, великому и правдивому» как будто иное.
Окончится декламация на собрании в день русской культуры, вернутся растроганные дедушки и бабушки домой, повторяя про себя: «нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу»; сядут обедать вместе со своими детьми, внуками…
И внук спрашивает:
– Grand-maman, a tu dansée là-bas?[573]
A внучка добавляет:
– Y avait-il un flm de Walt Disney?[574]
Отвечать этим деткам на зернистом русском языке невозможно: для них этот необыкновенный язык – тайна. Его крупный жемчуг им неизвестен. Их молодые родители, живущие заграницей в дни раздумий и сомнений о судьбах родины, никак не удосужатся обучить своих наследников этому правдивому, могучему, но излишнему в настоящее время, языку. Конечно, они сами, молодые родители, тоже до некоторой степени патриоты, как дедушки с бабушками; но какая поддержка и опора свой язык в чужой стране? С ним не только поступить на службу нельзя, но даже в магазине ничего купить невозможно. Не нужны здесь все эти