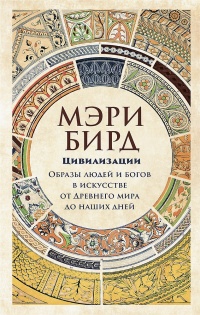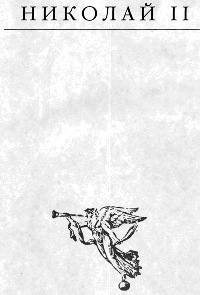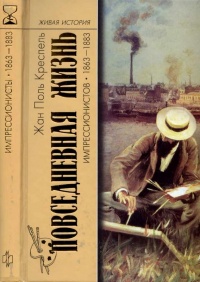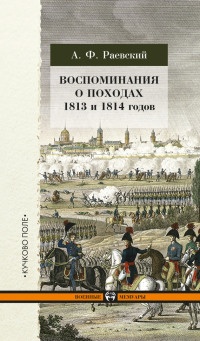«Вот мы и в сердце Франции, мой добрый друг, и мерзнем больше, чем в Петербурге или Твери. Случилось то, что зима возобновилась с новой силой, и наша слава слегка простыла. (…) Но все это можно перенести, когда думаешь о счастливом и спокойном будущем, которое нам готовят нынешние наши лишения.
Граф фон Витгенштейн только что осуществил соединение с большой армией. Я не могу тебе сказать, что будет дальше, но я предполагаю, что мы будем наступать. (…) Этим утром я имел счастье вновь увидеться с Лагарпом, который прибыл прямо из Парижа. Народ здесь весьма равнодушен и убог. Если его не мучить, он оставит нас в покое. (…) Мы едим вволю трюфелей, но вино довольно плохое. (…) Наши аванпосты находятся за Бар-сюр-Об, а Платов наступает в направлении Парижа. А я хотел бы наступать в направлении твоего сердца. Прощай, милый мой друг, нежно тебя целую».
Что касается Александра I, то тремя днями позже, готовясь покинуть Лангр и направиться в Шомон, он написал своей сестре Екатерине, рассказывая о своем глубочайшем удовлетворении и изъясняясь куда менее буднично, чем его государственный секретарь:
«Тысячу рад благодарю тебя, милый друг. (…) Вот мы и на пол пути между Базелем и Парижем, прямо посреди этой столь грозной Франции: а Франция не только не угрожает, но и принимает нас с распростертыми объятиями и считает друзьями.
Надежда и абсолютная вера в Бога, и Он решит все».
Вера в Провидение дарила царю оптимизм; полный спокойствия в окружении своих людей, он, казалось, был абсолютно уверен в грядущем успехе.
«Он и в сем походе был столь же весел, столь же любезен, как и в предыдущем, и таковым, как я после редко видал его в путешествиях и в дворцах его. Приучив себя с молодых лет переносить непостоянство стихий, он всегда был верхом в одном мундире, лучше всех одет; казалось, что он был не на войне, но поспешал на какой-нибудь веселый праздник», — напишет Михайловский-Данилевский.
Тем не менее по мере своего продвижения русские офицеры испытывали все более смешанные чувства.
Некоторые превратили свое «посещение» Франции в самое настоящее интеллектуальное и литературное паломничество. В начале февраля, когда русские войска оккупировали департамент Верхняя Марна, поэт Батюшков отправился в замок Сире, где Вольтер неоднократно останавливался у своей возлюбленной мадам дю Шатле. Его пригласили туда два близких друга: барон Роже де Дамас и Александр Писарев, получившие ордера на расквартирование в замке. Трое друзей ужинали «в столовой, украшенной знаменами русских гренадеров», и в знак почтения к философу и его подруге вместе декламировали стихи из «Альзиры», трагедии Вольтера, написанной именно в замке Сире…
Другие, более многочисленные, были разочарованы, поскольку образ родины Просвещения, представлявшийся им в самых пышных красках, не сочетался с реальностью, которую они обнаружили. Конечно, Глинка хвалил качество французских дорог:
«Чудесные дороги! Проезжаем несколько станций, не спускаясь, не возвышаясь, все по ровной глади, как по натянутому холсту; ничто не остановит повозки, нигде не получишь толчка. Дорога чиста, как ток: на ней, как говорится, ни сучка ни задоринки. Я в первый раз отроду по такой прекрасной еду».
Но многие обращали внимание на убогость домов, на множество оборванцев и нищих, которых они встречали на своем пути, и даже, как это ни удивительно для французской национальной гордости, жаловались… на плохое качество хлеба!
«Несмотря на слова французов, приезжающих в Россию, несмотря на их кажущееся отвращение к черному хлебу русских крестьян, мы нигде во Франции не могли найти белого хлеба, даже в самых больших городах, как Труа, Лангр… Нам потребовались бесконечные усилия, чтобы добыть несколько хлебов, и то они оказались совершенно кислыми. А в Лангре вообще был всего один булочник, выпекавший белый хлеб», — жаловался А. Чертков».
Со своей стороны, Наполеон, до той поры остававшийся в Париже, руководивший военными операциями и логистикой издалека, забеспокоился о том, как развивается ситуация. Через месяц после начала вторжения он решил сам возглавить свои войска. 23 января, в снегопад, он принял в дворце Тюильри представителей Национальной гвардии, чтобы сообщить им свое решение. В этот торжественный момент, как вспоминала первая фрейлина императрицы, он не сдержал душивших его бурных чувств: