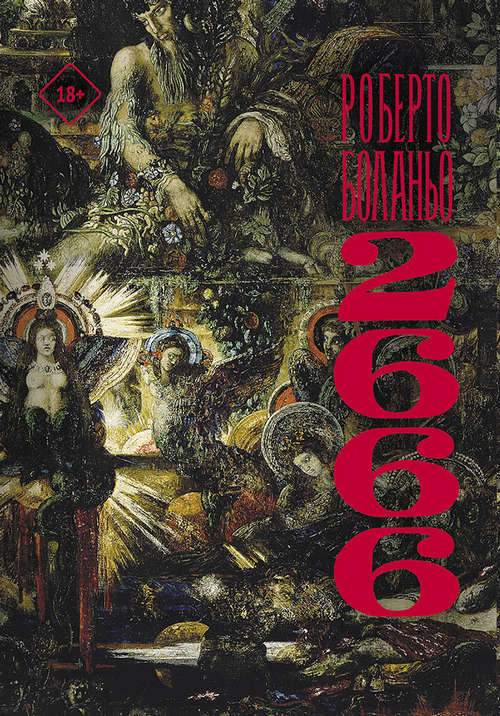Назира. Уехал Халимджан-амак? Что ж, есть другие, они ответят, разберутся, помогут!..
Рано утром, отправляясь на работу, он столкнулся в воротах со свахой, которая пришла, по всей вероятности, за ответом. Гиясэддин хорошо знал эту развратную, крикливую женщину, грязную посредницу в темных делах, и загородил ей дорогу.
— Уходите, — сказал он, — моя сестра не хочет выходить замуж. И запомните: чем дальше вы будете обходить наш дом, тем меньше будет у вас неприятностей.
Сваха, вздрогнув, отступая, замахала руками, завизжала на всю улицу:
— Сгинь, сгинь! Провались вместе с сестрой, у меня от страха разорвалось сердце, душа ушла в пятки… Сумасшедший! Сгинь, проклятый!
«Сумасшедший!»
Мало ли что можно услышать от женщины со скандальным нравом? Тогда Гиясэддин пропустил это слово мимо ушей, но сколько страданий оно доставило ему потом! Слово пошло гулять по кварталу, он слышал его отовсюду, оно неслось с высоких стен и из-за крепких ворот, ползло следом змеей — шепотком: «девона! девона! девона!..»
Гиясэддин, посоветовавшись с товарищами, написал в газету «Бухарские известия» статью, в которой призывал защищать права женщин и девушек и подробно рассказал случай со сватовством Назира здравоохранения.
Статью печатать не хотели; редактор газеты — человек с кудрявой шапкой волос на голове, в очках с золотой оправой, сером костюме и жилетке, по которой сползала золотая цепочка часов, — посоветовал не распространяться на подобные темы; но под нажимом вышестоящих организаций он вынужден был подписать статью в набор. Там она пролежала еще некоторое время и только после неоднократных напоминаний вышла в свет, вызвав смятение среди некоторой части читателей. Вопрос о Ходже Аткия обсуждался на совместном заседании Центрального Комитета партии и революционного Совета; ему было объявлено взыскание, несмотря на все запирательства и попытки обвинить Гиясэддина в клевете.
Вот тогда и начало раздаваться отовсюду слово «девона» — «сумасшедший»…
В дни торжеств Гиясэддин обычно надевал пионерскую форму — короткие, до колен, штаны, красный галстук, тюбетейку. Видя его в такой одежде, некоторые люди, особенно старики, хватались за голову, недоуменно покачивали головами, злобно перешептывались. Только потом Гиясэддин понял, как умело воспользовались этим враги, окружив его липкой паутиной лжи.
— Девона, девона, — неслось отовсюду.
Даже мать стала сомневаться:
— Сыночек, как ты себя чувствуешь?
— Хорошо, а что?
— Но может быть… — Мать замялась, не зная, как сказать, потом решилась: — Люди говорят, что у тебя повредился рассудок, ты, говорят, ходишь по улицам босиком, с непокрытой головой… Это правда?
Гиясэддин рассмеялся и ответил, что не следует верить подобным словам: их распускают глупые, сами выжившие из ума, люди, вроде свахи; все это ложь.
Но старушка стояла на своем.
— Не дай бог, если в тебя вселилась нечистая сила, что мне тогда остается делать, несчастной?! Пропадем мы с Малахат. Пожалей хоть сестру…
Кто вам сказал эту чушь? — возмутился Гиясэддин.
— Все говорят! — всхлипнула мать. — Почему ты не стыдишься людей, почему ходишь в коротких штанах, в одежде неверных, с непокрытой головой, почему?! Брось эту одежду, сыночек, одевайся, как все люди…
Гиясэддин растерялся.
— Хорошо, мамочка, — сказал он, — я не буду больше носить пионерскую форму, буду ходить как все… Но неужели и вы считаете меня сумасшедшим?
Сердце матери, конечно, отказалось верить такой беде. Она обняла сына, заплакала.
— Есть еще у нас враги… Чем мы виноваты перед людьми? Почему они не оставят нас в покое?
— Врагов у нас пока хватает, — ответил сын. — Им не по нраву наша новая жизнь. Но я не покорюсь и буду бороться с ними!..
… — В том темном зиндане, — продолжал свой рассказ Остонзода, — в доме для умалишенных Ходжаубани, я понял, что людей, подобных ака Мирзо и Гиясэддину, бросали сюда сознательно, по заранее выработанному плану. Очевидно, здесь сводились не только личные счеты…
Гиясэддину удалось успокоить мать, но он не мог заткнуть рты своим врагам. Сплетня росла с каждым днем. Знакомые стали избегать его на улицах, товарищи — поглядывать с сомнением и всерьез справляться о самочувствии. Гиясэддин изо всех сил крепился, потом пытался отшучиваться, наконец, начал сердиться. Все это принималось за признаки безумия. Паутину лжи и клеветы ткал опытный паук, она прочно опутала Гиясэддина.
И наступил день, когда двое или трое друзей (друзей ли?), обманув, привели его сюда, к Ходже. Здесь на него не замедлили надеть цепи.
— Откуда мне знать, — говорил Гиясэддин, — может быть, эфенди Назир женился на моей сестре, забрал ее к себе и теперь самодовольно ухмыляется? Кто знает… Но я верю в свою победу. Я знаю, Советская власть крепнет изо дня в день, и врагов у нее становится все меньше. Вот увидите, не сегодня-завтра возвратится Халимджан-амак, он придет сюда и уничтожит это гнездо негодяев. Мы снова станем свободны, не отчаивайтесь, не забывайте, что есть партийцы, комсомольцы, и если мы как-нибудь дадим им знать, они освободят нас из этого зиндана!
Кто-то из безумных истерично расхохотался:
— Нас освободят, куда поведут? Пускай лучше убьют, чем быть назиром, надевать мундир и брюки, ходить с длинными волосами и кататься в шайтан-арбе. Нет, никогда! Сами садитесь в свой автомобиль! Я стану хатибом[45] большой мечети, и будут у меня даровые плов и шурпа…
— Браво, молодец! — ответил ака-Мирзо. — Дело твое, только не забудь пожалуйста нас, когда станешь хатибом… — Он зевнул. — Спать, однако, пора, уже поздно, сейчас будет светать. Постарайтесь хоть немного соснуть.
Но сумасшедший не дал спать. Он издал протяжный вопль и, причитая, забился головой о столб, поддерживающий навес. Ака Мирзо пытался удержать его, а он все вырывался и тянулся к столбу. Подоспел Гиясэддин, вдвоем они с трудом оттащили сумасшедшего и брызнули ему в лицо холодной водой — единственным лекарством в нашем зиндане. Сумасшедший также неожиданно утих.
Однако следом поднялся другой и, приплясывая, затянул гнусавым голосом песню; третий чему-то рассмеялся и продолжал смеяться, не переставая, схватившись за живот, катаясь по земле… Ака Мирзо и Гиясэддин переползали, насколько позволяла цепь, от одного к другому и успокаивали их, а я, забившись в страхе в угол, дрожал всем телом и не знал, что делать.
Мне кажется, нет и не было на свете зиндана страшнее, чем этот. С чем сравнится душевная боль? Человек может перенести любые физические страдания, но когда топчут его сердце, когда в душу плюют, когда он знает, что заведомо оклеветан, нет пытки хуже… «Не родиться бы мне совсем, — думал я, — умереть бы, когда умирала мать, я не попал бы сюда.