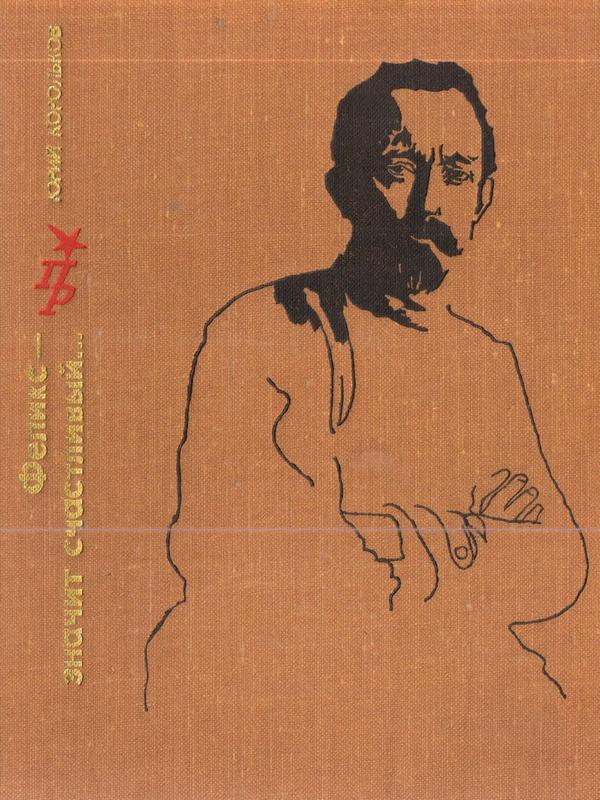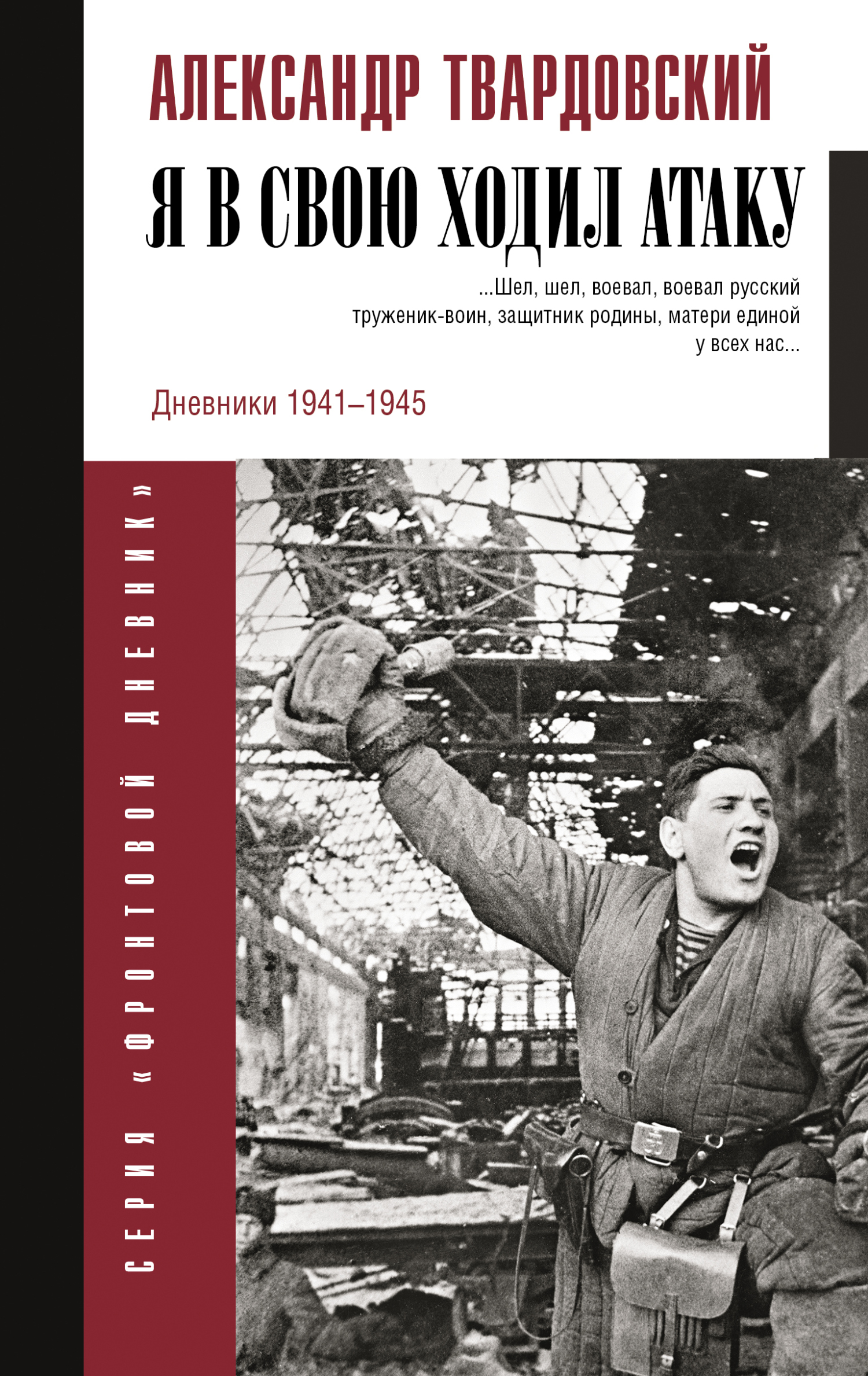мои планы на будущее, после того как меня освободят из тюрьмы. Короче говоря, толковали мы о чем угодно. Если, бывало, он, к сожалению, не понимал моего рассказа, то дожидались возвращения поляка, который служил нам переводчиком. Постепенно я усвоил некоторые русские слова. Мусу я видел всегда в хорошем настроении, склонным к шутке, даже в критической обстановке. Как-то ночью во время сильной бомбежки в тюремном дворе, как раз против нашей камеры, упали две зажигательные бомбы. Джалиль начал кричать. Прибежал тюремный надзиратель… Джалиль тогда с самым серьезным видом спросил его: «Скажите, разве в Германии отменено затемнение?» Можете вообразить, как вскипел тюремщик!
Шутки Мусы бывали иногда очень мрачны, и мне кажется, в этом трагическом сарказме у него не было равных.
В тот день, когда немцы явились, чтобы отправить его в военный трибунал, он сказал мне:
— Я вернусь, но с головой под мышкой.
О его отношении к врагам, с которыми ему приходилось иметь дело, я не в состоянии много сказать, так как недостаточно долго знал его. Могу лишь удостоверить, что, когда в камере появлялся кто-либо из тюремной администрации, Муса наотрез отказывался встречать его стоя, что нам вменялось в обязанность. Из одного этого можно заключить, что Муса был не из покладистых.
Жизнь в камере текла однообразно. В шесть часов утра подъем. Муса вставал первым. Он слегка обтирался холодной водой, умывался и делал свою обычную гимнастику. Приносили еду. Затем около девяти часов прогулка. Возвратившись в камеру, Муса принимался исписывать бумагу, листок за листком! Многие он рвал. То, что оставалось, правил и так работал до полудня. В ожидании обеденного супа мы беседовали о разных вещах. Проглотив похлебку, отдыхали до двух часов. После этого Муса снова принимался за продолжение утренней работы. Листков становилось все больше. Муса их перечитывал, рвал, правил и время от времени переписывал в записную книжечку, которую я впоследствии передал в советское посольство. Мне кажется, что, если бы я сохранил все разорванные им листки, материала хватило бы для издания четырех или пяти томов. У него была страсть к писанию.
Могу вас уверить, что мы жили довольно дружно. Увы, всему бывает конец, даже совместной жизни двух человек, пришедших из совершенно различных миров и встретившихся под небом, столь мало милосердным. Настал день, когда Мусу отправили в Дрезден, где ему должны были объявить приговор военного суда. Меня перевели в тюрьму Шпандау. Каково же было мое удивление, когда однажды во время прогулки в тюремном дворе я увидел в приоткрытом окне первого этажа голову Мусы Джалиля. Остановившись как бы для того, чтобы завязать шнурок ботинка, я дал понять Джалилю, что встречусь с ним в бане. В условленный день я попросил разрешения пойти искупаться. Разрешение мне было дано. Муса уже был в бане. Он похудел и выглядел бледным. Несколькими словами и жестами он дал мне понять, что ему вынесен смертный приговор и что каждое утро он ждет, что приговор будет приведен в исполнение. Он напомнил мне об обещании, которое я дал ему относительно его рукописи. Я сообщил ему, что рукопись находится уже в надежных руках в Бельгии. Он был счастлив.
Так я расстался навсегда с одним из самых лучших моих друзей по тюремной камере.
Вот все, что я могу сказать о Джалиле».
Мы обязаны Андре Тиммермансу тем, что он сохранил маленький тюремный блокнот Джалиля с его стихами, которые впоследствии вошли в посмертный сборник произведений поэта под названием «Моабитская тетрадь».
В этом сборнике есть чудесные строки Джалиля, посвященные Андре Тиммермансу. В посвящении он написал: «Моему бельгийскому другу Андре, с которым познакомился в неволе». Это стихотворение «Мой подарок». Поэт грустит, что в жизни у него не осталось ничего для друга:
Когда б вернуть те дни, что проводил
Среди цветов, в кипенье бурной жизни,
Дружище мой, тебе б я подарил
Чудесные цветы моей Отчизны.
Но ничего тут из былого нет —
Ни сада, ни жилья, ни даже воли.
Здесь и цветы — увядший пустоцвет,
Здесь и земля у палачей в неволе.
Все, что осталось у поэта, — его чистое сердце и песня, их он отдает своему другу:
Лишь не запятнанное мыслью злой,
Есть сердце у меня с порывом жарким,
Пусть песня сердца, как цветы весной,
И будет от меня тебе подарком.
Коль сам умру, так песня не умрет,
Она, звеня, свою сослужит службу,
Поведав Родине, как здесь цветет
В плененных душах цвет прекрасной дружбы.
Те же мысли высказывает Джалиль и в другом стихотворении, тоже посвященном Андре Тиммермансу. Это как раз те стихи, которые Муса кроме своего блокнота записал на чистых страницах молитвенника, — последнее, дошедшее до нас стихотворение поэта. Оно датировано первым января 1944 года.
Здесь нет вина. Так пусть напитком
Нам служит наших слез вино!
Нальем! У нас его с избытком,
Сердца насквозь прожжет оно.
Быть может, с горечью и солью
И боль сердечных ран пройдет…
Нальем! Так пусть же с этой болью
Уходит сорок третий год.
Бессмертный воинский подвиг поэта-солдата не только возвысил самого Мусу Джалиля, но и возвеличил его творчество. Слияние, созвучие подвига и таланта явили новый пример того, как личная отвага, мужество, патриотическое служение Родине придают особое звучание творчеству поэта, озаряют новым светом его стихи, придают им особую силу, страстную убедительность. Муса Джалиль остался в поэзии таким же, каким был в жизни, в борьбе.
К счастью, до нас дошли не только стихи Джалиля, переданные им Андре Тиммермансу. Сохранилась еще одна тетрадка с несколькими десятками предсмертных стихов Джалиля. Этот блокнот поэта совершил долгий путь, пока дошел до Казани. Как эстафету передавали его из рук в руки узники фашистских концлагерей, подвергали себя жестокой опасности, и в конце концов после войны стихи поэта привез с собой на Родину Нигмат Терегулов.
После нескольких вооруженных выступлений в батальонах легиона «Идель Урал» гитлеровцы пришли к неутешительному для них выводу о ненадежности этих формирований из советских военнопленных.
Последний батальон «Идель Урал» был переведен во Францию. Здесь часть легионеров с оружием в руках перешла на сторону французских партизан. Один из легионеров-подпольщиков, Габбас Шарипов, привез с собой блокнот, который ему передал в тюрьме Муса Джалиль. В свою очередь Шарипов, не надеясь,