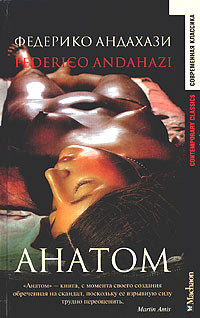— А этого ты вынести не могла?
— Да нет, я этого ужасно хотела. Но я была обещана другому. Как там его зовут, маленького страшненького карлу, Румпельштильцхен? Ни одному принцу меня не спасти. На мгновение я решила, что Джеймс Стюарт сможет. Но на самом деле мне нужен Румпельштильцхен. Знаешь, что я в итоге больше всего в нем возненавидела, в своем красавчике? Чертову его невинность. Мне это стало казаться нечестностью. Он водил меня по ресторанам. Мы сидели с бокалами в руках, планировали наше будущее. Войны как будто не существовало. И так нам было хорошо, все так элегантно и добропорядочно, а потом мы шли домой и спали на мягкой постели, и так бы все и продолжалось до самой смерти. Невыносимо. И однажды вечером, вместо того чтобы выпить из бокала, я швырнула его ему в голову. Он тут ни при чем. Не его вина, что у него на глазах никогда не тонули сто человек, никогда не взлетал на воздух корабль. Это ведь со мной что-то не так. Но его невинность казалась мне оскорбительной.
Она взмахнула рукой:
— Не то чтобы я любила эту жизнь. Даже не могу объяснить, почему я здесь. Нигде мне места нет. Нет, есть — здесь. Или, точнее… — она внезапно с облегчением улыбнулась, как будто поток речи наконец привел ее к спасительному слову, — это все «кивиток» во мне.
Между ними возникли доверительные отношения, но дистанция не уменьшалась. Она права, думал он. Это война. Она жила в них обоих. Лишь когда война кончится, у них что-то может быть. Но когда она кончится? Будут ли они живы? Он хотел от нее ребенка — слепой инстинкт, но сколько они могут ждать? Она его на пару лет старше, тридцать четыре или тридцать пять. До какого возраста женщина может рожать?
Он смирился. Блютус. Вот его ребенок — и всей команды.
Рождество справляли к северу от Ирландии. Еще в Галифаксе Уолли притащил на борт елку. Закрепил ее на носу, на свежем воздухе, и дерево начало осыпаться уже только тогда, когда его установили в кают-компании. Хельге где-то достал пакет фундука. По четыре орешка каждому. Он обернул их розовой креповой бумагой — вот и подарочки получились. Однако под елкой все же громоздились подарки. Все для Блютуса, хотя он был совсем маленьким и ничего не понимал. София распаковывала их за него. Внутри свертков находился мир, знакомство с которым приходилось откладывать на после войны. Коровы, лошади, поросята, овцы, слон и два жирафа. Большинство деревянных фигурок дарители вырезали сами и старательно раскрасили имеющимися в наличии красками. В основном, как и мир, в котором их заперла война, черной, серой и белой. Блютус по очереди взял в рот коров, лошадей и слона и задумчиво пожевал.
* * *
Блютусу было около года, когда как-то вечером в Ливерпуле София пошла в увольнение с остальными членами команды. Блютус спал в кубрике у Уолли, самого большого своего приятеля, добровольно записавшегося в няньки.
Кнуд Эрик не знал, что она ищет. Может, то, чего они не могут дать друг другу, но могут найти у посторонних?
Он всегда ходил на берег один. Виски из шкафа больше не вынимал. Но не мог отказаться от ночей на суше. Однажды они наткнулись друг на друга в пабе на Кот-стрит. На ней было темно-красное платье, губы накрашены, и он вспомнил их первую встречу в доме ее отца в Литл-Бэе. Оба, как сговорившись, отвернулись и сделали вид, что друг друга не заметили.
Немного погодя он вернулся на борт и тут же отправился спать. Через полчаса дверь открылась, и тесную каюту наполнил непривычный аромат духов.
А случайно ли он забыл запереть дверь?
— Так дальше продолжаться не может, — произнесла она и начала раздеваться в темноте.
— Я убил человека, — сказал Кнуд Эрик. — Он стоял на коленях и молил о пощаде, и я в него выстрелил.
Она легла рядом с ним. Взяла обеими руками его голову. В слабых отблесках света, проникающего через иллюминатор, он с трудом различал черты ее лица.
— Мой Кнуд Эрик, — произнесла она голосом, охрипшим от нежности, которой раньше он в ней не замечал.
Он высвободился и встал:
— Мне нужен свет.
Включил электрическую лампочку и лег обратно.
— Красные лампочки на спасжилетах.
Он не знал, почему произнес это. Запретные слова, вытесненное воспоминание, которое надо удерживать на расстоянии, если хочешь выжить. Но где-то внутри таилось знание: если он хочет любить, то должен произнести их вслух.
— Нет среди нас таких, кто бы о них не думал, — сказала она.
— Я их топил.
— Мы, — сказал она. — Мы их топили.
Он провел рукой по ее лицу и почувствовал влагу на щеке.
Прижал ее к себе и заглянул в глаза.
Вокруг было очень тихо. Ни звука сирены, ни звука падающих бомб, ни ударяющих о палубу волн, ни грохота взрывающихся кораблей с боеприпасами. Только гул динамо-машины, работающей в недрах корабля.
Он продолжал ее обнимать.
— Моя София, — произнес он.
* * *
В августе 1943-го датчане взбунтовались и вышли на баррикады в Копенгагене и в других городах. Правительство прекратило сотрудничество с оккупационными властями Германии и подало в отставку. Офицеры флота затопили свои корабли в акватории Копенгагенского порта.
Датскому флагу Даннеброг снова было позволено развеваться на союзных кораблях. Но они уже привыкли к Ред-Дастеру — «красной тряпке», так что все осталось по-старому. Кроме того, у них на борту находились представители стольких стран, сколько было членов экипажа, и даже сами датчане представляли собой весьма пеструю толпу.
А Блютус? Он родился в Атлантическом океане и являлся его почетным гражданином.
Они были плавучей Вавилонской башней в битве с самим Господом Богом.
— Можем повесить на мачту подгузник Блютуса, — предложил Абсалон.
— Чистый или грязный? — спросил Уолли, признанный мастер по смене подгузников.
Они надраили палубу и намыли переборки. Чистота, как на паруснике, как на старом добром «Данневанге», мир его памяти. И все ради Блютуса.
Теперь можно было спокойно ходить в увольнения, сидеть в барах. Никто больше не называл их полунемцами и любимыми друзьями Адольфа. Когда моряки узнавали, что они с «Нимбуса», то сразу спрашивали: «А как там Блютус?»
Спасибо, хорошо. У Блютуса выпали и снова выросли волосики, черные, как у мамы. Первый зуб, больно было немножко, наверное. Первый шаг, он учился ходить на палубе. Верил, видимо, что весь земной шар состоит из холмов — вверх и вниз, вверх и вниз, — и недоумевал, когда земля под ногами не ходила ходуном. Бывало, падал, ударялся — и просился к маме на ручки. Или к одному из многочисленных пап. Легко ли управиться, когда приходится говорить «папа» на семнадцати языках. Морская болезнь? У Блютуса? Никогда! Да лучше его на всем союзном флоте никто качку не переносил.
«Нимбус» был счастливым кораблем.