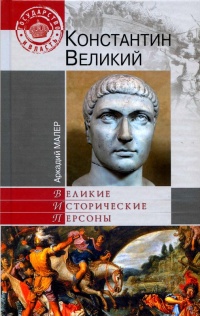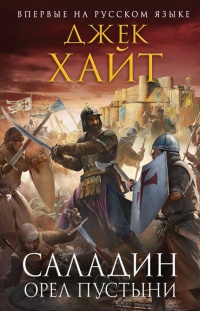не будет вручён указ о назначении наместником, совершенно такой же, какой был дан и герцогу Альбе. От меня будет зависеть, долго ли придётся ждать этого момента, самый же приказ лежит уже подписанный, добавлял дон Матео.
С минуту я не верил своим глазам, но в этой стране случаются иногда изумительные вещи, и дон Рамон, уходя, отвесил мне такой же низкий поклон, какой я, бывало, делал герцогу Альбе… Должно быть, влияние моей семьи при дворе всё ещё очень велико, если мне делаются такие предложения — искренно или нет, это другой вопрос. Пусть даже неискренно: дайте только мне силу, и я против их воли заставлю их исполнять договор. Если даже это был бы мираж, то блеск этого миража легко мог бы соблазнить человека на некоторое время. Вице-король всех Нидерландов, у которого больше реальной власти, чем у самого короля в Мадриде! Все законы, в сущности, отменяются, и остаётся один — воля наместника.
Возвращаясь домой из городского совета, я жаловался в душе на своё жалкое положение, а теперь мне предлагают самое высокое положение, какого только может достичь человек, не родившийся на троне.
Я ходил взад и вперёд по своей комнате, сжимая рукоятку моей шпаги, которой я всем этим обязан. Я боролся с искушением, не стану отрицать этого. Одно мгновение искушение это было ужасно, когда мне пришла в голову мысль, что, быть может, в этом-то и состоит моя жизненная миссия. Положив шпагу на пол, я опустился на колени и стал горячо молиться, прося Бога просветить меня. Мои пальцы невольно схватились за голову тигра на рукоятке шпаги, словно от этой эмблемы моего дома они хотели почерпнуть силу и мудрость, необходимые мне теперь, когда предстояло принять окончательное решение. Они почти вцепились в неё, как бы принуждая мою судьбу, чьи очертания были размыты, принять определённые формы и приблизиться ко мне, чтобы я мог рассмотреть её теперь же.
Чего не мог бы сделать человек, облечённый такой властью. Подобно Господу Богу, он держал бы в своих руках проклятие и благословение!
В тишине моей комнаты я стоял на коленях и боролся с искушением, которое пришло ко мне так же неожиданно, как к первой женщине, до тех пор, пока солнце не скрылось за окном и мираж не исчез, как исчезает Фата-моргана на южных равнинах, оставляя после себя вместо золотых серые, безотрадные пески.
Я очнулся от забытья и вздрогнул. Я знал, что я останусь жить здесь, останусь маленьким человеком в маленьком городе, сражающимся с его гражданами из-за таких же маленьких дел, как мы сами. Когда я слягу, чтобы умереть, последний свет, который увидят мои глаза, будет свет этого хмурого неба, которое висит над этой страной в течение девяти месяцев. Мне уже не увидеть, как блестит южное солнце на водах Гвадалквивира, как оно одевает в золото стены Кордовы. Хотя я никогда не говорил об этом и даже не занёс на эти страницы, но мне ужасно хотелось бы увидеть всё это ещё раз перед смертью. Но этому желанию, конечно, не суждено сбыться.
Мои молитвы, должно быть, были услышаны, и я стал спокойнее. Потихоньку мои пальцы выпустили голову тигра, на которой уже не будет больше красоваться корона, и я тяжело поднялся с колен.
То был сон. Теперь я проснулся и знаю, что и для власти вице-короля есть вещи, которые для неё недоступны.
Нужен человек, как сказано в письме, который был бы испанцем и солдатом, который мог бы железной рукой управлять войском. Нужен государственный человек, который был бы наполовину голландцем и который мог бы сблизить обе расы, держа ловкой и мягкой рукой знамя примирения. Солдат и испанец — этому условию я удовлетворяю. Я только теперь вполне почувствовал, какую сильную власть надо мной сохранила старая родина, теперь, когда с болью в сердце приходилось разрывать последние узы с ней. Государственный ли я человек — этого я сказать не мог, но ни одному человеку, который решится бороться за своё господство в этой стране, не удастся осуществить это стремление к примирению. Это всё равно, что попробовать примирить воду и огонь.
С одной стороны — власть короля и папы над телом и душой своих подданных, а с другой — свобода человека. С одной стороны — старая церковь и инквизиция, а с другой — новая вера, за которой ещё слабо и робко, но уже поднималась терпимость я свобода мысли. Тут дело в борьбе не народов, а идей, а идеи властны и не терпят компромиссов.
Ещё одно обстоятельство. Если даже все эти соображения неверны — эта мысль долго ещё будет приходить в голову и искушать меня, — то вот что верно — на ступенях, ведущих на вице-королевский трон, лежит измена. В исступлении ума я однажды уже совершил её, но больше я этого не сделаю. Пусть не говорят потом, что у любого гражданина этой страны чувство чести развито сильнее, чем у дона Хаима де Хорквера, хотя он стал уже однажды изменником, а теперь ему предлагают целое королевство за то, чтобы он стал им во второй раз.
А Марион! Если бы даже не было никаких, других соображений, то одна мысль о ней остановила бы меня от этого. В течение долгих тяжёлых лет боролся я за любовь, которую она теперь даёт мне, и если бы я мог купить её ценой всего королевства, то и это было бы дёшево. Горе мне, если б я теперь променял её на власть!
Напишу мой ответ дону Матео де Леса теперь же и заявлю ему прямо, что я уже слишком стар и слишком устоялся в своих мыслях и убеждениях, чтобы менять их ещё раз.
Многое произошло со вчерашнего дня. Вместо того чтобы сделаться наместником королевства, я сижу в тюрьме, имеющей не более двадцати квадратных футов, и пишу эти строки в моём дневнике при свете сальной свечки, сгорая от нетерпения узнать, скоро ли всё это кончится. Мне никогда прежде не случалось сидеть в тюрьме, и моё теперешнее положение не лишено для меня интереса новизны. Какое странное ощущение, когда вы неосторожно встаёте и ударяетесь головой о свод сырого подвала или когда вы садитесь, чтобы посидеть в тишине, а у самых ваших ног громко скребётся мышь.
Впрочем, это все преходящие неудобства, и я утешаюсь тем, что знаю, что они продлятся одни, много, двое суток: на том свете будет просторнее. Желал бы я знать, так же ли