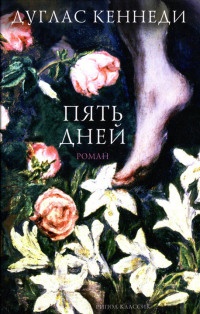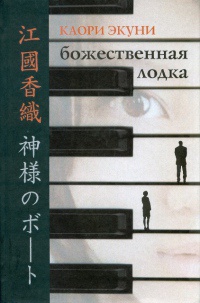Незнакомец, приехавший на пароме, сказал, что он из Бостона, но по-английски он говорил с легким испанским акцентом. В последующие месяцы он превратил обычно довольно спокойные службы в синагоге в яркие представления. Пятничную службу он вел дольше трех часов. Он ходил между рядами, звал женщин с балконов вниз, прерывал молитву, чтобы задать вопрос, требовал ответа и не успокаивался, пока не чувствовал присутствие Бога в помещении.
В один прекрасный день исчез и он. Ни единой зацепки, куда бы он мог деться. Ни одной общине в Бостоне не был известен человек с таким именем. В той раввинской семинарии, которая выдала ему диплом, подтвердили, что он там учился, но никто не знал ни его семьи, ни друзей. Единственный след возник тогда, когда кузина Кацмана увидела похожего на него гида, который вел туристов по переулку где-то в Индии. В тесном переулке было полно людей, и у нее не было ни малейшего шанса подойти поближе и как следует рассмотреть его.
Некоторые утверждали, что над нами тяготеет проклятие. Когда-то у нас было, как в других общинах, — раввины оставались до старости, болезни или смерти. Очень давно, задолго до войны, у нас был старик, который не хотел уходить, хотя ему перевалило за девяносто. Он был так слаб, что двум мужчинам приходилось помогать ему подниматься на помост. У него был настолько тонкий голос, что его могли услышать только те, кто стоял рядом. И тем не менее он настаивал на проведении каждой службы. Даже то, что он, вынимая из шкафа свиток Торы, все чаще ронял его, старика не смущало, хотя в наказание за такой проступок надо целых сорок дней поститься. Эти сорок дней, поскольку для одного человека это слишком много, делятся между всеми, кто присутствовал при падении свитков.
Старый раввин с каждым годом становился дряхлее и упрямее. После одной особо суровой зимы от него почти ничего не осталось, кроме прозрачного скелета. Каждый раз, когда он приближался к шкафу с Торой, чтобы достать свиток, прихожане задерживали дыхание. Через какое-то время его стали захлопывать. Ничего не помогало. Каждый раз он ронял свитки. По большим праздникам и по малым, в шабат и в будни, на утренней службе, по вечерам и в воскресенье, когда их вынимали, только чтобы стереть с них пыль. Он ронял их на деревянные половицы синагоги, на красный ковер, на лестницу, ведущую с помоста, а как-то раз один свиток упал прямо на другие свитки в шкафу с Торой, что вызывало цепную реакцию — все свитки выпали, скатились вниз и приземлились перед первым рядом.
Тогдашнее правление общины вычислило, что если сложить все дни и поделить их между всеми взрослыми членами общины, а также мальчиками, которые станут бар-мицвами в течение года, то каждому надо поститься почти месяц. Правление сочло, что не имеет смысла вынуждать членов общины идти на такие жертвы, когда все равно количество дней вскоре придется увеличить. Правление решило подвести под случившимся черту и перестать считать.
Только когда мы искупим это преступление, с нас снимут проклятие.
* * *
Папа свернул талес и положил его в ящик.
Одолжил зажигалку у мужчины со шкиперской бородкой с переднего ряда.
Я прижал руки к бокам и посмотрел на пол. Когда я раскачивался на ногах, кисточки на мокасинах словно танцевали друг с другом. Я обнаружил это вместе с Санной Грин на праздновании моей бар-мицвы. Ее семья пришла одной из первых. После того как я открыл их сверток, мы встали рядом спиной к столу для подарков. Мы почти не разговаривали, просто стояли нарядно одетые и смотрели на красиво украшенные столы. Я начал играть кисточками и говорить на разные голоса. Санна досмеялась до икоты, а потом вообще зашлась в смехе. Она не перестала смеяться, даже когда вскоре подошли папины родители и тетя Ирен. Мамэ вручила от них подарок, причем ее голос и руки дрожали от серьезности момента. Мне пришлось сделать вид, что я не знаю, что лежит в свертке, хотя мамэ рассказала мне об этом еще за несколько месяцев. «Я не хочу, чтобы ты говорил это маме с папой, но на твою бар-мицву, Якоб, я хочу подарить тебе нечто важное. На память. Не новый свитер, не сотню в конверте. Я хочу подарить тебе, — она посмотрела по сторонам, словно чтобы удостовериться, что никто не подслушивает, — бокал для киддуша, которым ты будешь пользоваться всю жизнь. Хочешь взглянуть прямо сейчас?»
У меня глухо урчало в животе, болели ноги, жгло спину.
Скамья была покрыта толстым слоем коричневой краски со сливочным оттенком, как будто ее покрасили шоколадным пудингом. К ней было приятно прижаться щекой. Я стал засекать время, сколько смогу держать рот открытым, не пуская слюни. 1, 2, 3. Я считал про себя. 34, 35, 36. Закрыл глаза. 71, 72, 73. Йом-Кипур. 1973. В два часа дня раздался сигнал воздушной тревоги. Сразу после этого новость дошла до информационных агентств. Раввин прервал службу, и все бросились в общинный дом. Из-за воротничков с длинными уголками и густых бакенбард в конторе Заддинского стало особенно тесно. Мама была беременна мною. Рафаэль выглядел как Маугли, а папа был без усов.
Жаль, что в тот день меня не было вместе со всеми. Вся община собралась перед хрипящим радио, некоторые бегали звонить родственникам в Израиль, на полу играли дети в теплых свитерах. Я мог быть одним из них, и папа мог бы подозвать меня и Рафаэля к себе, посадить нас на колени и объяснить, что случилось. Рассказать о шоковых атаках с севера и с юга, о наших войсках, которые отступали, спина к спине, о штабе в Иерусалиме, где наши самые острые умы и мужественные сердца делали все, что могли, чтобы предотвратить невозможное поражение.
89, 90, 91. Темная комната. 102, 103, 104. Нервные политики. 117, 118, 119. Жалкие новости с фронта. Голда прикуривала одну сигарету от другой и обзывала своих министров идиотами. Они не сумели учуять в воздухе запах войны, а теперь им не удалось быстро получить план от США. Еще несколько часов, и страну уничтожат, а ничего радикального не происходит. Голда предвидела кровавую баню. Может быть, наши враги проявят больше милосердия, если мы сдадимся прямо сейчас. Да, решила она, пусть будет так. Она стояла с трубкой в руке, когда я ворвался в комнату и закричал: «Подождите». Полковник засмеялся надо мной. Голда велела ему замолчать, пусть мальчик скажет. Между тем висящая на стене карта у нас за спиной сменяется черно-белыми фотографиями пионеров, которые пробираются по негостеприимной пустыне, мимо проносятся военные составы, нацисты с автоматами толкают перед собой пленных, и Бен-Гурион в музее Тель-Авива, и солдаты у Стены плача, и дедушка с мамэ на отдыхе в Нетании, и светлые, темные, европейские и восточные дети вместе в детском саду, и все встают в ряд и поют гимн Израиля «Атиква».
Я вытер лицо тыльной стороной ладони. На откидной крышке под моим подбородком образовалось лужа слюны величиной в пятикроновую монету. Сердце быстро билось. Я посмотрел прямо вперед поверх рядов и попытался найти такую позу, чтобы почувствовать себя уверенно и независимо, а не скованно, но у меня ничего не получилось. Сунув руки в карманы, я вышел.
* * *
Я выглянул в вестибюль и посмотрел в сторону входа, где была контора Заддинского. Зайдя в туалет, увидел, что все кабинки заняты.