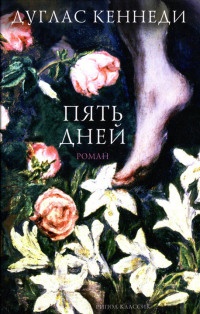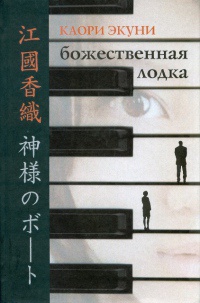Папа стоял, обхватив себя руками, и грыз ноготь большого пальца. Я сам надел на себя талес, прислонился к скамье и подпер голову руками.
Время шло медленно.
Из шкафа для Торы вынули свитки, и всем пришлось встать. Стариков позвали читать. Кантор держал указку над свитком. Когда старики дочитали до конца, свитки с Торой обнесли вокруг зала. Затем разрешили сесть на двадцать минут, а потом все повторилось снова.
Я считал звезды Давида на обоях с внешней стороны балкона. Ненадолго выходил попить воды. Вернувшись, я почувствовал нешуточный schtunken[51].
Schtunken возникает, когда сотни постящихся людей целый день находятся в одном помещении. Запах этот напоминает смесь ацетона со старыми помоями. С каждым часом становилось все хуже. Из-за этого опоздавшие поворачивались в дверях, а беременные женщины ковыляли к выходу, зажав рот руками. Смрад шел из стариковских ртов, просачиваясь сквозь остатки пищи у них на зубах, примешиваясь к запаху предвкушения, исходящего от сплетников в заднем ряду, и к кислому дыханию охранников, которые на них шикали. Он впитывал в себя содержимое тяжелых пеленок младенцев и сопливого нытья их старших братьев и сестер, смешиваясь с трудно промываемыми частями бороды раввина, и поднимался вверх на все восемь метров к потолку, где, собравшись с силами, разворачивался и пикировал вниз, на балконы и скамьи.
У меня замерзли ноги. Мимо нас прошел Юнатан Фридкин и спросил, не хочу ли я пойти вместе с ним в общинный дом присмотреть за детьми. Я отказался.
* * *
Кровь прилила к кончику пальца, и он стал лилово-красно-синим. Я покрепче обвязал нитку вокруг верхней фаланги указательного пальца, а когда застучало, ослабил нитку и увидел, как отливает кровь и палец бледнеет. Какое-то время еще продолжало стучать, все слабее и слабее, пока не осталось только щекочущее жужжание в самом кончике пальца.
Если поставить руку под нужным углом, вены на внешней стороне ладони становятся такими же толстыми, как у папы. На моей левой ладони они напоминали букву «У» с длинными жилистыми ответвлениями вверх, к пальцам. Вот такие ладони я хотел бы иметь. Ладони, которые могут отбивать ритм о колени, ладони, которыми можно хлопнуть кого-то по спине в знак одобрения. Реальный хлопок по спине, крепкое рукопожатие, skoyach[52], мой друг, по-настоящему skoyach.
На мою бар-мицву, как только я дочитал до конца свой отрывок из Торы, в ту же секунду все встали со своих мест, чтобы подойти ко мне и поздравить. С балкона мне на голову посыпался арахис, одни мужчины как следует хлопали меня по спине, другие крепко брали за плечи. Женщины принялись горячо обнимать, а старики пожимали мне руку своими холодными ладонями и целовали влажными губами.
Только Моше Даян был недоволен. Ему не нравилась традиция осыпать подростков на бар-мицву и бат-мицву арахисом. Ведь это ему потом приходилось убирать синагогу, оттирать жирные пятна с красного ковра, вытаскивать крупинки соли, застрявшие между рейками, которые прижимали ковер к лестнице перед шкафом с Торой, подметать следы растоптанной ореховой массы, которая собиралась под каждой из трех ступенек. Не он один убирал синагогу, однако он относился к уборке со всей серьезностью, он отвечал за чистоту в первую очередь и воспринимал каждое ненужное загрязнение интерьера как личное оскорбление. «Леденцы на палочке», — обычно говорил он, выходя во двор и оборачиваясь, чтобы (скорее всего, из мазохизма) еще раз посмотреть на разрушение. «Почему нельзя было оставить леденцы?»
В течение нескольких лет девочки с балкона забрасывали новоиспеченного конфирманта твердыми леденцами на палочке Dumle. Задним числом Моше Даян тепло отзывался о леденцах, но и они ему не нравились, это факт. Ведь леденцы тоже означали мусор: везде бумага, везде палочки, какой-нибудь юнец съел только половину, бросив недоеденное на ковер, и леденец втоптали, и он прилип. Вдобавок многие пожилые посетители страшно боялись, что леденец попадет в них. «Когда они летят с такой высоты, мало не покажется», — говорил Даян в то время, когда боролся с леденцами. «И кому мешали маленькие машинки?»
Раввин Вейцман принял решение: арахис. Когда Даян стал жаловаться, раввин предложил вариант без соли. No соли, no жирных пятен, no издевательских крупинок, которые прячутся под рейками лестницы. Но вахтер был не готов зайти так далеко. Что за вкус без соли? Уберите соль с арахиса, и что тогда останется — бугристый кусок дерева? Сухой и безвкусный. Так не подобает приветствовать еврейских подростков в день, когда он или она вступают во взрослую жизнь, уж лучше пусть ему будет страшно тяжело. Но — и пусть раввин это уяснит — делать он это будет без радости.
Всякий раз, когда у нас менялся раввин, решался вопрос, каким продуктам быть в общине. Раз в год от главного раввина в Стокгольме приходил список с разрешенными предметами. Этим списком должны были руководствоваться все шведские общины, но наши раввины никогда не принимали его в расчет. Каждый новый раввин по-своему истолковывал кошерные законы и тщательно анализировал все продукты: сыр в холодильнике наверху, на кухне актового зала, кофе, сухое молоко, концентрированный сок, киддушное вино, печенье без сахара «Марие», которое ел Заддинский, пахнущий мясом корм «Фролик» для Зельды — и писал новые законы.
Особенно строгой проверке подвергались сладости. Это считалось чрезвычайно важным, поскольку они входили в круг интересов молодежи. Мы же подрастающее поколение, будущее, и крайне важно, чтобы мы не ели ничего такого, что могло бы сбить нас с пути истинного. С леденцами всегда было непросто. При одном раввине их разрешали, при другом — запрещали. То же самое с машинками Ablgren. Как правило, их принимали европейские раввины и запрещали американские.
Никто не мог толком объяснить, почему наша община так часто меняла раввинов. Приводимых объяснений — плохой климат, маленькая община, далекая страна — было недостаточно. Другие скандинавские общины жили в тех же условиях, но им же удавалось удерживать своих раввинов. В Копенгагене один и тот же раввин служил пятнадцать лет.
Насчет того, сколько раввинов сменилось у нас за тот же период, была небольшая неясность. Смотря как считать. Например, брать только тех, кто действительно были раввинами, или включать в число раввинов и тех, кто называли себя таковыми? Считать ли тех, с кем община договаривалась, подписывала контракт — и которых потом никто никогда не видел? И тех, кто доезжал до места (их представляли под заголовком «НАКОНЕЦ-ТО» на фотографии в полный рост на первой странице общинной газеты с широкой улыбкой и гордо вытянутой рукой Заддинского, обнимающего их за плечи), но потом бесследно исчезал до выхода следующего номера — а с ними-то как быть?
Помню бельгийца с рыжей бородой, немного рассеянного израильтянина, того, кто сидел в советском лагере и у кого плохо пахло изо рта, и того, кто знал только немецкий и любил высоко подбрасывать меня в вестибюле. Мои родители часто вспоминали раввина по фамилии Росен. Он явился в общину одним весенним вечером в середине 70-х годов. В доме был один Заддинский, он сидел в своей конторе в просиженном кресле бежевого цвета и клеил адреса на платежных напоминаниях, как вдруг здание пронзил настойчивый звонок в домофон. На черно-белом экране камеры у входа он увидел молодого человека с пышной прической в плотном вельветовом пиджаке. В одной руке незнакомец держал рюкзак. Другой поднес к камере наблюдения свое удостоверение раввина.