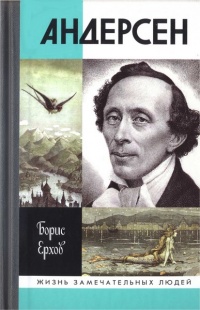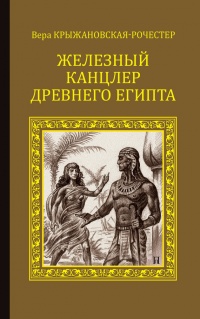Христиан Йохансон вполголоса перевел мою речь Фробениусу, который встал с места, подошел и облобызал меня, как на грех, при Сеньоре. Пахло от него ужасно, по-видимому, он был сильно пьян. Я чувствовал, что их спор вот-вот разгорится снова, однако ничего подобного не случилось. (Вернее, все произошло назавтра, когда, покидая остров, Фробениус в присутствии хозяина помочился в парке, прямо в середину звездообразной шестиконечной клумбы, чем едва не довел Сеньора до апоплексического удара; это состояние настигало его как следствие бешенства, дошедшего до крайних пределов, но тут он приписал его воздействию паров ртути.)
А тогда небо, очистившись, отвлекло внимание всех присутствующих: теперь они могли наконец узреть комету. Что до меня, я почитай что ничего не разглядел, зато Сеньор водрузив свой нос на место, провозгласил, что она дальше Луны и вращается вокруг Солнца в безднах мирового эфира. Такой вывод следовал из его расчетов относительно положения ее хвоста в различные периоды 1577 года, когда он наблюдал за ней. Он злобно косился на меня, да и на Христиана Йохансона поглядывал так, будто это он мне внушил мое бойкое выступление во славу Коперника. Наконец он велел мне отправиться обратно во дворец и бодрствовать у постели злополучного Ольсена.
– Увы, – сказал я, – он скончался.
– Тебе откуда знать?
– Оттуда же, откуда я знаю, что вы думали о том же нынче утром, когда обтирались уксусом.
– А, так ты, стало быть, подглядываешь за мной во время туалета? И о чем же еще я помышлял нынче утром?
– Что Фробениус собирается нас покинуть. И что он так же неотесан, как король Шотландии.
– Демон!
– Всецело к вашим услугам.
Я всегда с ним так разговаривал.
Итак, Ольсен только что испустил дух, с ним была Ливэ и еще Шандор Сакаль, венгерский студент, прибывший накануне от двора императора Рудольфа Габсбурга. Моя птица, сидя на окошке, без сомнения, видела, как душа больного отлетела к кометам и дальним светилам. В сущности, все птицы, играющие с ветром на земляных насыпях, за стенами церкви Святого Ибба, у прибрежных отвесных скал и на кровлях Кронборгского дворца, подобно мельнице Класа, водяному колесу бумажной фабрики или заключенным в футляр часам Яхинова, в своем движении, может статься, лишь слабым эхом отзываются на движение звезд?
Мысль, что Элиас упивается величием этого коловращения, наполнила меня беспримерной радостью за него, но и сверхчеловеческой скорбью о его прежнем положении, от коего он ныне избавлен, как будто на земле всякий человек уподоблен моему брату-нетопырю, слепому, глухому, обремененному бесполезными крылами, коим, однако, предстоит развернуться в неведомых просторах эфира.
Элиас Ольсен снискал ни с чем не сравнимое доверие своего господина. Он был послан за хозяйский счет в Польшу, его имя стояло под трудом, чьим создателем являлся Тихо Браге, он разделял с ним его прогулки, его наблюдения, его шутки над желторотыми юнгами, которых его наставник пугал, подводя к статуе Меркурия. Но исчезнув, он словно бы и не доставил ему особого огорчения. По-моему, все выглядело так, будто "господин Тихо в его лице потерял не ученика, а слугу, сообщника, неудобного свидетеля.
Короче, он быстро утешился, чуть ли не до погребения. На маленьком погосте Святого Ибба он выказывал досаду, что священник слишком долго копается, ему это потом припомнили так же, как упразднение церемонии изгнания бесов при крещении, презрение к таинству исповеди или то, что во время службы он располагался справа от кафедры, – все, чем он, по его понятиям, способствовал искоренению на острове пустых суеверий. (В церкви северный угол, откуда веют дурные ветры, предназначался для женщин, он же, как назло, велел переставить свою скамью туда же, к ним, чтобы показать, как мало значения он придает всей этой чертовщине.)
Но такие вещи он делал, без сомнения, из гордости: с верованиями этих людей ему легко было не считаться, ведь он являлся их господином; пренебрежительно обходиться с Богом или с дьяволом собственной персоной он никогда в мыслях не имел, и хотя его представления о грехе отличались от общепринятых, страх Божий, присущий ему, как и всем, давал о себе знать множеством разнообразных хитростей, на которые он пускался, избегая зайцев, старух и сорок – мою спасло лишь то, что меня он опасался еще больше.
Когда погребали Элиаса Ольсена, новый пастор прихода Святого Ибба поспешил завести речь об Иерусалиме и о последней трапезе Христовой, а сам все обдергивал сутану цеплявшуюся за шипы живой изгороди, что топорщилась у него за спиной. Произнеся молитву, он умолк, ветер трепал его седые космы, словно поломанные перья мертвых птиц, и было похоже, будто он злится, что так быстро закончил. Как мне представляется ныне, господина Браге он ненавидел за то, что не смог понравиться ему. Так же, как юный Густав Ассарсон – он там тоже был, стоял с непокрытой головой, прислонясь затылком к дереву под стеной, что возвышалась над прибрежным обрывом, и с бесстыдным любопытством норовил поймать его взгляд. Но не вышло.
По окончании этой церемонии, куда стеклось большинство прихожан и ради которой Сеньор потребовал выслать ему работников с бумажной фабрики, что в Голландской долине, а также команды всех стоящих на рейде судов (моряки ютились в хижинах у пристани), он приказал огласить королевский эдикт, объявляющий его хозяином острова, дабы таким образом напомнить своим арендаторам и слугам об их долге. Сия предосторожность со всех точек зрения выглядела неуклюжей и смешной, что не укрылось от большинства присутствующих, в том числе от его сестры Софии, весьма недовольной им и отбывшей в тот же вечер, а также от немецкого студента Фробениуса, который, как я уже говорил, помочился в парке, раздразнил до исступления псов шотландского короля и удалился, громогласно предрекая» что этот «юнкер» (так он на немецкий манер принизил ранг хозяина дома) своей дурью весь дом доведет до беды.
В тот же день Тихо Браге, зазвав меня в свой алхимический кабинет, осведомился, что я об этом думаю. Я отвечал, что надобно дождаться, когда возвратится из Копенгагена Ливэ со своей госпожой Софией, ибо пророческий дар, коим она обладает, посильней моего. Но в ту самую минуту, когда я облекал эту ложь в слова, в памяти моей всплыла картинка Альциато, изображавшая две руки, разгоняющие саранчу; под ней еще была подпись: «Что предпринять против ваших хулителей? Как быть, если узколобые наставники школяров вздумают плеваться в вашу сторону желчью? Разгонять, отмахиваясь руками, или не обращать внимания, памятуя об их ничтожности?»
«Наставники школяров» – вот слова, поразившие его так сильно, что он перестал подливать ртуть в склянку. Стеклянный сосуд содержал малую толику этого злотворного металла, который служил ему для членения времени. За сутки, проходившие от зенита до зенита, ручеек этой отравы в однажды отмеренных долях перетекал в зеркально отполированную чашу весов с нанесенными двадцатью четырьмя часовыми метками, позволявшими по тяжести ртути определять, сколько протекло времени (а также выверять скорость перемещения звезд).
«Что это за наставники школяров, которым, по-твоему приспичило меня погубить?»