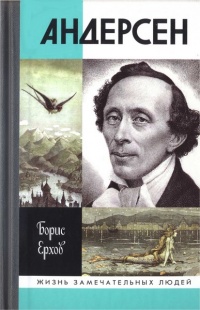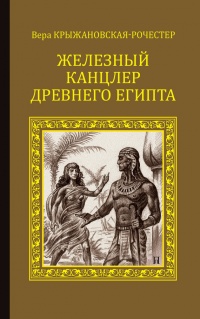Мысль, что я, стало быть, без ведома своего хозяина оказался его спасителем, сильно взволновала меня, заставив понять, что во мне живет глубокая преданность этому человеку. С тех пор дурное обхождение, которому он меня подвергал, перестало что-нибудь значить, и хотя Ливэ не раз пыталась меня убедить, сколь чувствительны претерпеваемые мною унижения, они представлялись мне лишь следствием его благодушной шутливости, ведь у меня совсем не было гордости. Когда по его приказу мне приходилось раздеваться перед собранием студентов, английским пастором, пьяными шотландцами или каким-нибудь заезжим дворянином из центральной Европы, я повиновался с радостным терпением; когда он допрашивал меня о движении звезд, чтобы дать гостям повод посмеяться над моим невежеством, когда он использовал мою ошибку, чтобы от противного доказать перед всеми справедливость своей теории устройства вселенной, суровость его нрава не могла оттолкнуть меня (хотя, сказать по чести, у этого правила было одно исключение – когда он приказывал музыкантам замолчать, я сердился, он ведь заявлял, что этот шум ему осточертел, меня же, наоборот, ничто так не пленяло, как мелодии Вербуа, а за то, чтобы выучиться играть на лютне, я бы отдал жизнь).
В ту пору остров посетил король Шотландии. Никто не предупредил нас об этом визите. Король прогостил меньше трех дней и отплыл восвояси, оставив в подарок хозяину пару гигантских псов, которых приставили к двум крепостным воротам, на что очень сетовали обитатели флигеля для слуг.
Я был на мельнице у Класа, забылся, созерцая чудо мельничного колеса, что печально поскрипывало на морском ветру, когда мне сказали, что королевское судно выходит в открытое море. Свенн Мунтхе пошутил, что желает самой жуткой бури этому принцу с его собаками, но погода стояла тихая. Очки Филиппа Ротмана позволили мне различить красное пятно на гроте. Мимолетное посещение юного шотландского короля ввергло меня в глубокую задумчивость. Ведь оно совпало с пролетом кометы, о которой гости Сеньора говорили с вожделением, хотя видеть мы ее не видели.
Даль была скрыта облаками. Небо лишь в редкие минуты дарило нам возможность наблюдений. Да и то приходилось подолгу томиться в ожидании под сенью купола, увенчанного статуей Меркурия. Там по обе стороны от печи стояли две лежанки и был еще стол в форме полумесяца.
Однажды вечером я с особенно грустным чувством смотрел на этот стол, ведь за ним вел свои записи Элиас Ольсен, теперь умиравший на верхнем этаже. Сеньор поручил мне приносить несчастному питье, и я оставил ему свою сороку в клетке, чтобы его развлечь, меня мучила совесть, что я напророчил его смерть. Я бранил себя и за то, что своим неосторожным предсказанием разбудил неправедный страх в душе своего господина: он ни разу не поднялся наверх, чтобы повидать обреченного. Ибо Сеньор был из тех врачевателей, которые побаиваются больных.
Ливэ, напротив, каждый день навещала Элиаса Ольсена, чтобы изгнать боль, грызущую его внутренности, и София Браге, по доброте душевной не желая отнимать у бедняги эту последнюю помощь, не отсылала свою служанку назад в Копенгаген, пока жизнь в нем еще теплится.
И вот там, под куполом, у стола в виде полумесяца с выгравированными на нем латинскими девизами, в компании Христиана Йохансона, бледнолицей совы Ханса Кроля – двух учеников, которым было поручено из комнаты с армиллярной сферой наблюдать за облаками, – да еще третьего, длинноклювого Фробениуса, да голландца с острой бороденкой по имени Йост и еще одного дворянина из свиты шотландского короля, которого его господин оставил у нас из-за его тяжелой болезни, господин Браге, полулежа и привалившись к боку своего любимого пса, то задремывал, то пытался взбодрить присутствующих беседой, а полумрак использовал для того, чтобы освободить свои ноздри от медной нашлепки, открывая взору гостей черную впадину, придававшую его физиономии сходство с ликом призрака.
Он при всех стал донимать меня вопросами. Я долго считал, что, вынуждая такого невежду, как я, рассуждать о материях, слишком явно превосходящих мое понимание, он стремится меня унизить. В самом деле, он под своим кровом умел привести в замешательство тех, кто не разделял его мнения о неподвижности Земли. Данный мной ответ относительно высоты небес уже стал поводом для долгих дискуссий, в последней из которых он столкнулся с Фробениусом. Я так и обомлел, когда он выразил желание послушать, как я стану отстаивать теорию Коперника, выдумывая причины, по каким Земля должна была бы вращаться.
– Но, – пролепетал я, – как же мне доказать то, чего нет?
– Я тебе приказываю. Повинуйся или будешь наказан.
– Если, повинуясь, я проявлю чрезмерное рвение, не буду ли я точно так же наказан?
Он охотно признал, что такое возможно. Студенты и дворяне так и покатились со смеху. Затем он предупредил их, что в моем лице желает выслушать раба, козопаса, скота, чьи сократические суждения помогут истине воссиять.
Снаружи ветер грохотал в медных кровлях, шквалы следовали один за другим с воем более яростным, чем это обычно бывало в восьми каморках под крышей, где ученикам в штормовые ночи никогда не удавалось уснуть (и где в эти самые минуты так жаждал забытья бедный Ольсен).
Таинственными путями сновидения моя сорока, сидя у него на окошке, передала мне его отчаяние, в бездне которого горечь прощания с миром живых смешалась с болью от сознания, что Господин покинул его в час агонии.
Ни разу Сеньор не поднялся по ступеням лестницы, чтобы его утешить. Ольсен никогда бы не подумал, что виновником его отравления был Геллиус, но вчера, обменявшись с ним несколькими словами, я понял, что он считает себя принесенным в жертву «ради процветания науки» и неблагодарного хозяина, даже если последний в том не признается.
– По какой причине, – начал я наконец, обращаясь к этим великим умам, – Земля должна вертеться? А потому, что ежели бы ей пришлось оставаться недвижимой, она бы тем самым нарушила или даже остановила общее коловращение звезд.
– Unde?[10]– вопросил Сеньор. – И что бы с ним стряслось?
– Оно бы прервалось, – отвечал я, забираясь на скамью. Все засмеялись. Я торопливо продолжил – не из тщеславия, а из опасения, как бы меня не прервали:
– Если бы в день, когда дует сильный ветер вроде того, что сейчас свистит у нас над головами, мельнику Класу Мунтхе взбрело в голову, поймав его парусами своей мельницы, вдруг да и застопорить жернов деревянным клином, разве его мельница не развалилась бы? И равным образом если бы одно из колесиков часовой шкатулки господина Браге закрепили в каком-либо навеки неизменном положении, неужто ход всего механизма не застопорился бы? И не сломались бы сами часы? А с другой стороны, если бы Земля не была подвержена влиянию небесных сил, заставляющих ее вращаться, разве наблюдалось бы на ее поверхности хоть малейшее движение? Свистел бы ветер? Кружились бы жернова ветряных мельниц? Грохотали бы волны на песчаном бреге Хусвика, катая камешки, крупные, словно яйца? Нет. Должно быть, одному Господу в его царстве нерушимого покоя дано созерцать сотворенный им мир, не подчиняясь его вечному движению!