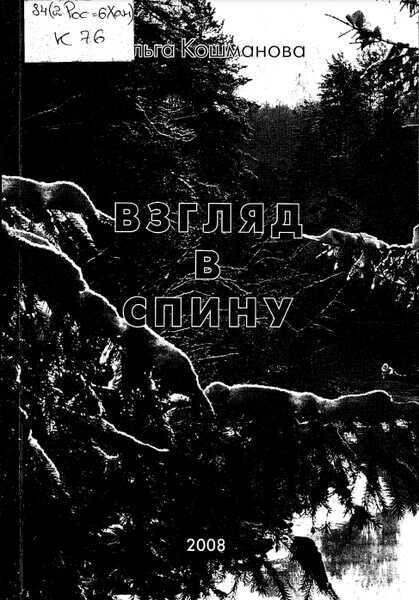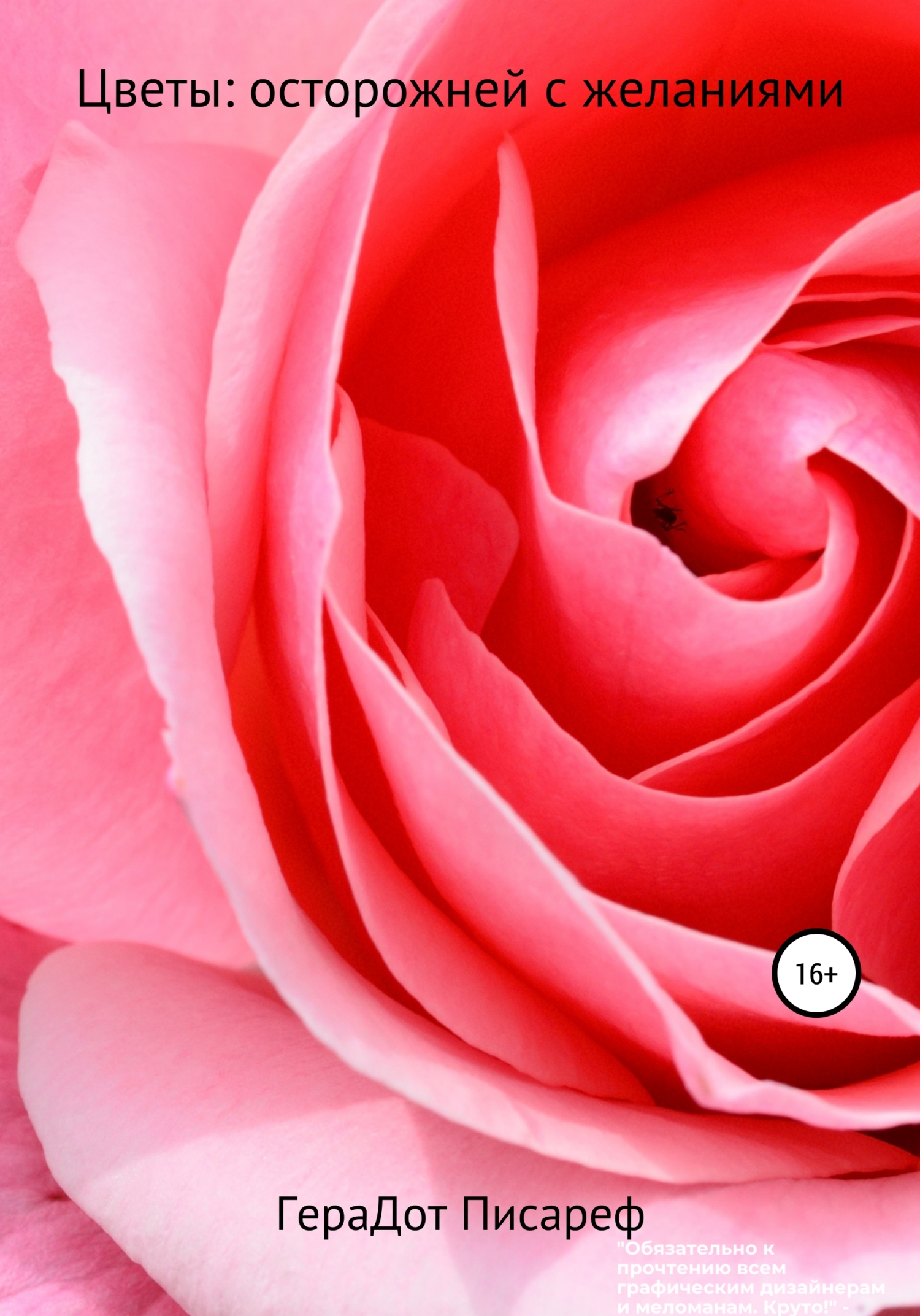образа в земном веществе, в чем и заключается работа ума, сущность человеческого творчества. В обоих случаях речь идет не о предмете, не об «объективной данности», а о событии – сокрытии явленного и явлении сокрытого. Событии в полном смысле жизненном.
Китайская метафизика обращена не к уму, а к (за)данности тела, чистой конкретности существования, которая предшествует и опыту, и знанию. «Это сердце – вот Будда», – гласит главная формула китайских буддистов. Чье сердце? Ничье. Пока еще ничье… Современные китайские философы придумали для этого понятие «внутренней трансценденции». Звучит почти как деревянное железо, но прижилось в литературе…
Во всяком случае тело Большого Будды ничего не выражает и не обозначает. Оно – метасимвол культуры, удостоверяющий совпадение несходного, чудесность реального и реальность чуда. Оно – метафора несказанного, ложь, лгущая о себе. Образ глубоко двусмысленный: неслучайно в последующие эпохи осмысление тела Будды пошло по двум очень разным направлениям.
С одной стороны, буддизм поощрял тенденцию к созданию натуралистически точной копии природы, а в действительности – идеальной маски реальности, безупречной иллюзии, которые выступают знаком абсолютной естественности, нетварности сущего. Именно в буддийской традиции создавались образцы (мнимо) реалистической скульптуры. Существовал даже обычай выставлять в храмах мумифицированные тела святых подвижников. Вожди современных буддийских сект считаются «живыми Буддами». Крайним выражением этой тенденции служат, пожалуй, японские сады, предъявляющие полную иллюзию «дикой природы».
С другой стороны, вследствие той же идеи иллюзорности всего видимого буддизм старался держать как бы ироническую дистанцию по отношению к образам собственной святости, намекая тем самым на внутреннюю, не-мыслимую глубину духовного постижения. Эта линия особенно плодотворно проявилась в Китае, возможно, благодаря влиянию даосизма. Ею порожден, в частности, дальний потомок сычуаньского колосса – так называемый толстобрюхий Милэ. Этот образ толстого, взахлеб смеющегося будды необыкновенно популярен в Китае. Он ближе и роднее народу всех прочих богов, потому что возвращает святость в материальный мир или, если угодно, поднимает материальный мир до святости. Он – лучшая иллюстрация к буддийской идее «передачи истины от сердца к сердцу», подлинной коммуникации, которая есть то, что сообщается помимо всех значений, чистая сообщительность в каждом сообщении.
В истории китайской культуры буддизм послужил своего рода промокашкой, на которой проступили сокровенные заветы китайской традиции. Этим объясняется и его сила, и его слабость. Несмотря на свой интеллектуальный радикализм, буддизм не мог, да и не стремился создать свой отдельный культурный мир.
«Буддийский синдром» в китайском искусстве сказывается либо в буйной, доходящей до гротеска экспрессии, либо в академически-строгом реализме. Одно подразумевает другое: в культуре Дальнего Востока фантастически-реальная жизнь «как она есть» только и вырастает на пепелище форм, сожженных безудержной экспрессией. Оба проявления буддийского синдрома как бы охватывают, обступают с двух сторон классическую традицию и – расшатывают ее.
Традиция не терпит ни мастеровитого реализма, ни буйной экспрессии. Она требует утонченно-стилизованного образа и морального усилия. В ее свете воображаемое и действительное не могут быть ни вместе, ни врозь.
Ответ дан в ключевом для традиции понятии «не-двойственность». Комические персонажи наподобие «толстобрюхого Милэ» или даосских небожителей исправно ему служат: они олицетворяют собою знаменитое китайское гунфу – эту фантастическую действенность действительности. Но и соблазн свести воедино символическое и реальное необычайно силен. Он стал причиной больших катаклизмов в истории китайской культуры и того страшного психического напряжения, которое пронизывает мировоззрение японцев.
На обратном пути, устав от многолюдья и лазания вокруг статуи, я захожу с моими спутниками в пустынную чайную и, потягивая ароматный местный чай, смотрю из своего укрытия на этот зеленый мир и на праздных туристов, которые спешат посмотреть на Большого Будду, не догадываясь, что от рождения живут в Будде, думают и чувствуют Буддой и даже в своих заблуждениях ни на миг от Будды не отходят.
Священные горы Сычуани. Китайский гений
Горы задают весь строй китайской жизни, ее глубинную музыку. Они определяют не только физико-географическое и административное районирование Китая, но и его духовную топографию. Для русских горы – экзотическая, заманчивая и почти недоступная (именно недоступность ее делает заманчивой) окраина: Крым, Кавказ, Памир, Алтай… Для китайцев же горы – настоящий фокус их природной и духовной среды. В Китае горы вносят небесную высоту прямо в гущу земного бытия. Их кудрявые склоны и ломаные гребни, похожие на спины извивающихся драконов, струящиеся по ним потоки вод, выдыхаемые ими туманы и хлопья облаков со всей наглядностью обнаруживают игру жизненных сил природы. Их узкие ущелья и таинственные пещеры кажутся воротами в иной и подлинный мир – блаженную обитель небожителей. Их багрово-золотистые утесы, сосцы сталактитов в пещерах, сочащиеся молоком Матери-Земли, словно напоены чистейшей энергией мироздания.
Китайцы называют свои священные горы просто «знаменитыми», «славными» (мин шань), что ближе к истине: для них горы являются в полном смысле частью цивилизации и ценнейшим достоянием государства. Высота их редко превышает 3 тыс. метров, так что, в отличие от Памира и даже Кавказа, они могут быть полностью обжиты человеком. Эти горы со всей наглядностью указывают человеку его предназначение – посвятить себя подвигу духовного самовозвышения и неустанно идти вверх, к Небу. Но по той же причине само Небо в Китае недалеко отстояло от человеческих трудов, обозначая скорее саму возможность и путь человеческого совершенствования. Как гласит китайская пословица, «когда осуществится путь человека, путь Неба осуществится сам собой»…
Примечательно, что самое понятие «святой» или «блаженный человек» в китайском иероглифическом письме состоит из знаков «человек» и «гора». Так что, в китайском понимании, человек совершенно естественным образом сходится с горой: то и другое воплощает квинтэссенцию мировой энергии. И пусть человек выглядит ничтожным перед громадами гор (каковым он и изображен на китайских пейзажах). Все же он несказанно велик в своей сопричастности (притом сознательной!) к мировому хороводу вещей. Поистине, нет ничего более великого, и даже позволительно будет сказать – более божественного в человеке, чем его самоумаление.
В окрестностях Чэнду находятся сразу две «знаменитых» горы. Одна из них, Цинчэншань, соседствует с городком Дуцзянъянь, о котором говорилось выше. Другая гора, Эмэйшань, расположена в полутора сотнях километрах к югу от Чэнду, недалеко от Большого Будды. Цинчэншань невысока – не выше полутора километров над уровнем моря. Эмэйшань намного больше и выше своей именитой северной соседки: высота ее главной туристической вершины – Золотого Пика – равна 3077 м.
Поговорим об этих горах.
Цинчэншань – колыбель китайского даосизма. С незапамятной древности она входило в число священных гор, каковые, разумеется, считались местом, где небеса встречаются с землей и где надлежит приносить жертвы высшим силам мироздания. А в середине II в.