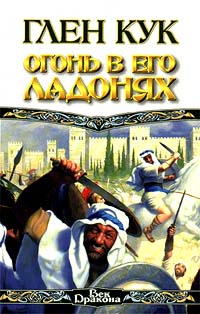сын.
— С ним всё в порядке, госпожа. Он растет крепким и здоровым.
— Я тоскую, — оборванный всхлип, вздрагивают тонкие веки.
Сердоликовые четки в женской руке не греют своей яркость, кажущейся неестественной в палитре приглушенных оттенков грозы.
— Тодо, вы когда-нибудь намеревались жениться?
— Нет, госпожа, — уши Тодо чуть краснеют.
— И хорошо, — синие глаза неожиданно обжигают, вспыхнув под медными ресницами. — Из вас вышел бы плохой муж.
Нечего возразить Тодо. Нечего ответить на столь внезапную нападку. Склоняет голову набок княгиня, ядовита улыбка.
— Не обижайтесь. Возможно, время закалит глину, ведь вы ещё молоды.
— Госпожа, что вы хотите? — замкнутая мгла мужских очей укоряет.
И женщина вдруг смеется, заливисто, словно юная дева. Только ухает в груди поминальным набатом.
— Вы ведь хорошо умеете хранить чужие тайны, Тодо?
Недоуменно хмурится учитель, но выражение его лица уже всё сказало за него. Женщина устало опускает плечи, гаснет так же скоро, как загорелась. Опускается фата, уводя куда-то далеко, к детскому беззаботному смеху.
— Мне было одиннадцать, когда мать сказала, что я стану женой князя Иссу. Вы мужчина, Тодо, и вам наверняка сложно представить, как пугает девочку известие о скором замужестве. Как заставляет кровь стынуть в жилах, а что-то в животе обрываться, и между тем, как радостно будоражит ум. Герой войны, доблестный воин, потомок сильнейшего из Вестников. Тот, кто помог моему дяде воссесть на престол. Я была горда, Тодо. Так горда, что даже стыдно вспоминать. Глупая своевольная девчонка, задравшая нос лишь потому, что её партия показалась куда выгоднее, чем у сестер.
Звон колокольчика. Раскачиваются стеклянные бусинки на легком ветру.
— Зато моя мать всё понимала. Она любила устраивать союзы, плести интриги. Старая паучиха, нынче её нет на свете. Но ей хватило мудрости сказать: «Смирись, дочь. Потому что безропотность отныне твоя доля», — шепот тлеет углями. — Я никогда не просила мужа любить меня. Нет, я поняла довольно быстро: любовь божественному противоестественна.[2] И мне этого достаточно, правда. Но скажите, Тодо, — взрывается голос тупой болью, поддается вперёд княгиня, искривлен лик гримасой отчаянья, — почему должны страдать мои дети? Я знаю, они Боги, как и мой муж, и должны нести это бремя, но я не могу видеть, как на пути к божественному они гибнут. Зачем это величие, если оно смерть? Ответьте мне!
Вздрагивает Тодо. Оцепеневший и онемевший, взирает впервые на нечто откровенное, что в гневе и ужасе взирает на него.
— Вы ведь ученный муж, вы ведаете больше моего. Так поделитесь, есть ли в писаниях способ сделать мое дитя счастливым?
Шум дождя. Тишина, повисшая в покоях. Опускает взгляд Тодо, извиняющееся сочувствие в его вздохе:
— Простите, госпожа. Боюсь, что ответа нет.
Но неутомимо материнское сердце в своей надежде.
— Тогда найдите его, Тодо. Молю, заставьте моего сына улыбаться, помогите ему познать счастье…
Гудит воздух от стрекота цикад. Растащили лужи осколки солнца, заключили в рамки. Разгладилось небо, скованное влажной духотой.
Ребёнок устроился на веранде позади кухни, прижав к груди биву, чистенькую, блестящую. Пролег древесный узор по грифу, высоки лады. Плектр отрывисто царапает струны, и их рваная, скачущая мелодия зазывает Тодо маяком.
— Где ты этому научился?
Плектр прерывает свой удар. Поворачивается ребёнок.
— Моя мама была певицей, — кривой клык, а глаза хитрые, смешливые. Родинка под правым из них. — Она выступала в настоящем театре и пользовалась успехом!
Сдерживает улыбку Тодо. Спустившись с веранды, становится перед ребенком, что откидывается назад, изумленно округлив рот.
— Дяденька, а вы ужасно-преужасно большой! — выпаливает искристо.
Улыбка всё же прорезается. Складывает руки на груди мужчина:
— Я не дяденька. Я учитель. Тодо.
Сучит босыми ногами ребёнок. Не по размеру рубаха вздулась шаром над тугим поясом, подвязаны штаны под коленями. Кот перепрыгивает через порог. Мурчит, когда ребёнок чешет ему шейку.
— Ты служишь при кухне?
— Угу.
— И как тебя зовут?
— Яль, господин Тодо.
— Учитель Тодо.
Ребёнок довольно щурится. Чирикает:
— У меня никогда не было учителя!
Обкорнанные волосы топорщатся на макушке кудрявым хохолком. Самый настоящий вороненок. Солнечный блик, застрявший в обсидиане. Предлагает заговорщически:
— Хотите, сыграю вам?
— Сыграй.
И ребёнок расплывается в широкой улыбке. По привычке прикрывает глаза и слегка запрокидывает голову, когда начинает петь. Тоненькая шейка, ленточки синих вен под бумагой кожи. А голос льется. Голос непомерный для столь щуплого тела. Ломкие веточки рук, прутья пальцев, короткие полумесяцы ногтей.
Тодо откровенно любуется удивительным мигом рождения чего-то прекрасного, затрагивающего душу, а ребёнок раскачивается в такт, выпуская краски из узкой груди:
— Ho кaк мepкнeт в нeбecax
Coлнцe нa зaкaтe дня,
Kaк cкpывaeтcя лyнa
Meждy oблaкoв,
Бyдтo вoдopocль мopeй,
Haдлoмилacь вдpyг oнa,
Бyдтo клeнa aлый лиcт,
Oтцвeлa нaвeк.[3]
Знакомое покалывание прокатывается отрезвляющей волной.
— Юный господин, — срывается с уст Тодо.
Бива замолкает. Набежавшее на солнце облако погружает в тень. Княжич замер на садовой дорожке. Белесые косы ниспадают на плечи, широко распахнутые глаза впились в ребёнка, в инструмент на его коленях. И от тьмы этого пристального немигающего взгляда становится не по себе. Больно похож на отцовский, больно отчетливо читается угроза. Тодо поводит плечами.
— Почему вы не научили и меня играть, учитель? — вдруг спрашивает княжич с явной обидой. Моргнув, смахивает угрозу со своего взгляда. Плещется детская ревность, поджимает вредно губы.
Слезает повисшее напряжение змеиной чешуей. Облако покидает солнце, возвращая яркость.
— Я вовсе не учил это дитя, юный господин, — отвечает примирительно Тодо.
— Верно, — оскорбленно фыркает ребёнок.
Насупливается, не понимая, что именно вызывает у него столь странное, почти животное желание отстраниться от приблизившегося княжича. Вместо этого ребёнок поводит лопатками, встряхивается, храбрится.
— Меня мама научила! Она была известной певицей…
— Яль, — перебивает Тодо мягко. — Прежде поприветствуй юного господина Иссу, как подобает.
И ребёнок теряется. Ещё раз оглядывает мальчика — воплощение студеной зимы. Пронзительны очи, прозрачней родниковой воды. Точеный лик выструган из льда. Пепел одежд подчеркнут голубыми вихрями пояса. Перчатка закрывает большой, указательный и средний пальцы правой руки.
— Молю простить меня, юный господин, — склоняется в виноватом поклоне ребёнок. — Я не знал.
Но княжича это не тревожит. Он подходит вплотную. Небрежный жест выпрямиться. Тодо замечает тень давно позабытого любопытства в мальчишечьих чертах.
— У вас что-то случилось, юный господин? Вы должны быть на стрельбище.
— Я упражнялся, а потом услышал… Что это за инструмент?
— Бива, — лукаво улыбается ребёнок. — Сыграть вам, юный господин?
Тень любопытства крепнет, пробиваясь ростком. Мальчик кивает, и ребёнок вновь творит целый мир. Разительно отличающийся от привычного.
Сменяются дни, но не меняется суть. Отцовский меч напоминает, даже когда на него не смотришь. Очередной удар сминает, запечатывая словно в гробу. Наседает многотонной глыбой,