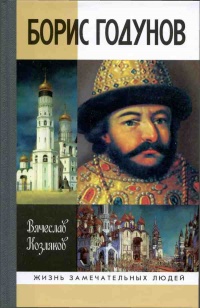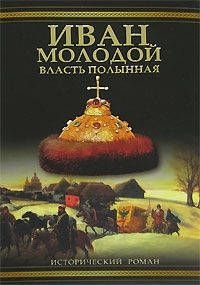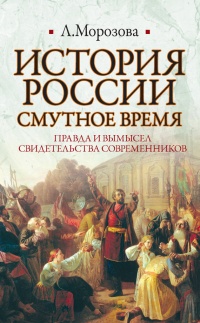этой не ждал.
…Возок побрасывало на ухабах, в передок дробно били комья снега, набрасываемые копытами коней. Хорошо, ходко шла тройка. «Н-да лети так и дальше, — подумал Лаврентий. — Мне бы вот всю дорожку свою так промахнуть… Чтобы лётом и без пенька под полозья». За бороду пятерней ухватил, сжал цепко. В городах, на которые указал ему Семён Никитич, по воеводским домам Лаврентий не засиживался, а больше среди подлого народа вертелся. В церкви ходил, по торжищам шлялся, в кабаках посиживал. Оденет полушубочек, кушаком подпояшется неброским, шапчонку поплоше водрузит на голову — и шасть на улицу. Такого не выделишь среди других. Знал он, что бывают времена, когда власть предержащие народ, как жеребца, на дыбы поднимают и ведут, как взнузданного. Но ведал и то, что есть денёчки, когда людей не обратать недоуздочком, хомут не набросить и тележка державная катит так, как только бог ведает. Было, было в Москве такое, когда народ Кремлю кулаком грозил и не у одного из кремлёвских жителей в портках сырость обнаруживалась. И чувствовал, чувствовал, что эдакое время приспевает. Уж слишком напутали сидящие наверху, наблудили, наворочали разного, что и сами не разберут, и людям не укажут, а дорожка державная ветвится, ветвится, и глядишь — вон одна тропочка по правую руку легла, другая влево потянула, третья вовсе в овраг метит, а четвёртая не поймёт и чёрт куда повела.
В Курске ходил Лаврентий по базару среди возов, шутки с бабами шутил, с мужиками собачился беззлобно, а потом в кружало завернул. Кабачишка был старый, с одетым в плесень, низким сводом, с тяжёлой стойкой, но здесь было тепло от жарко горевшей печи и народу набилось много. Кто чаек пристойно пил, говоря о делах торговых, а кто и водочку души для. Лаврентий присел не то чтобы с краю, но и не так, чтобы всем на глаза выпереться. Ему принесли штоф. Он стаканчик хорошо выпил, закусил забористой, с хренком капустой и, стаканчик из рук не выпуская, прислушался к голосам.
Говорили о разном. И о том, что цены на базаре кусаются. И о том, что мужики торговые хлебушек в амбарах придерживают. Да и о том, что не случайно это и ждать надо ещё и худшего. Всё это Лаврентий многажды слышал и оставлял без внимания. Случилось в кабаке иное, что в память запало и заставило задуматься крепко.
К стойке подошёл мужик. И не из голи кабацкой, но чувствовалось — и по одёже, и по тому, как он стоял перед кабатчиком, — человек самостоятельный. О чём они заспорили, Лаврентий не понял, но увидел вдруг, что кабатчик, сильно осерчав и изменившись в лице, кивнул базарному ярыге[119], что обязательно в такой торговый день сидит в кабаке для порядка. Ярыга к мужику бросился. Схватил за шиворот. Но не тут-то было. Мужик развернулся и крепким кулаком ахнул ярыге в скулу. Тот покатился под стойку. Весь люд поднялся на ноги. Ярыга заверещал, как заяц, и тут в дверь кабака второй из земских радетелей порядка влетел. Вдвоём они пошли на мужика. Ан вот тут-то и началось то, от чего Лаврентий подался в угол, дабы по случаю по башке не получить.
Ярыга коленки подогнул, плечи опустил, чтобы на мужика прыгнуть, ступил ногой вперёд, раз, два… Но его вовсе неожиданно один из стоящих в стороне крепко за руку взял и голосом спокойным, да таким, что каждый услышал отчётливо, сказал:
— Не замай.
И другого радетеля порядка за плечо придержали:
— Постой, дядя.
И так это случилось тихо, без крика, драки, что только диву даться. Однако ярыги остановились, и кабатчик за стойкой сник. Поняли, знать: баловать не надо, когда так говорят, — шуток не будет, но голову свернут.
В следующую минуту в кабаке всё стало, как и до того было. Народ за столы сел и, чаек прихлёбывая, заговорил неспешно о делах будничных, а кто и за водочку принялся. Ярыги топтались у дверей.
Пустяк? Однако Лаврентий, взяв штоф, набултыхал полный стакан и выплеснул горькую в глотку с омерзением. И второй стакан набултыхал без всякого удовольствия. Знал голубок: коли русский человек власти перестаёт бояться — быть лиху. И здесь воочию увидел — страху в народе нет. Да и большее ясно стало. Ярыга, что у дверей стоял, обвёл кабак взглядом, кровавую юшку под носом вытер да и вышел. Знать, уже он забоялся.
Сейчас, качаясь в возке, Лаврентий всё вспоминал, вспоминал лицо того ярыги. Прищуренные злые глазки, широкие скулы, ярость в стиснутых зубах, кровь по всей роже… Но главным было в лице не это, а растерянность, бессилие. Минуту назад ярыга мог подойти к любому в кабаке и крикнуть: «Вяжи его!» И повязали бы. А вот теперь нет. Большая, лапистая пятерня ярыги поднялась к лицу, стёрла кровь. Всё. Ушла власть. Ушла! Почему? Ответа Лаврентий не находил. Однако неуютно ему стало. А мысли, натыкаясь и натыкаясь на это разбитое лицо, шли дальше.
За время поездки говорил он не с одним воеводой и не с двумя. Ехал Лаврентий по поручению царёва дядьки, и принимали его, как это на Руси бывает в таком разе, широко… Угощали. Ласкали, и даже без меры. Но говорили невнятное. Больше слышал он бормотание. Однако в словах, глухих и окольных, разобрал всё же — раньше о том ведал, да не в такой яви, — не победил царь Борис ни Шуйских, ни Мстиславского, ни Романовых, хотя и прибил род этот, почитай, до корня, разослав и малых, и старых по разным городам и весям, монастырям и острогам, а там, вдали от Москвы, кого из них дымом удавили, кого ножом приткнули. Прочих, в живых оставленных, держали на коленях и строго. Ан всё одно не одолел. Лаврентий отчётливо представил царя Бориса, мысленно вновь натолкнувшись на ярыжку, стоящего у дверей в кабаке. Лицо царя, в отличие от лица побитого служителя власти, было тонко, благородно продолговато, и большие глаза распахивались на нём. «А Романовы-то, Романовы, — вспомнилось, — помиравшие в чадном дыму? Сонными приткнутые ножами к лежакам? Да только ли Романовы? Хе-хе…» И, вглядевшись, в больших царёвых глазах различил Лаврентий колючие зрачки ярыги, в мягких округлостях обозначались угластые его скулы и даже в царственно величественной и великодушной улыбке угадалась ярость крепко сцепленных ярыгиных зубов. И кровь, кровь он на лице Бориса увидел, и растерянность, бессилие на нём проступили. Рука царёва к лицу потянулась. Тонкие длинные пальцы, узкая ладонь… «А Богдан Бельский, — подумал Лаврентий, — казнь его на Болоте, выдранная борода,