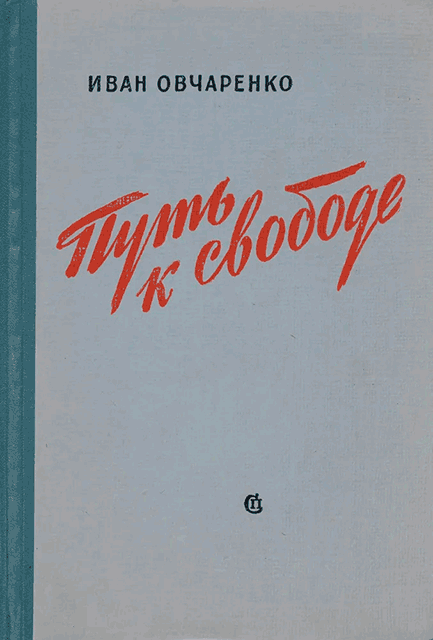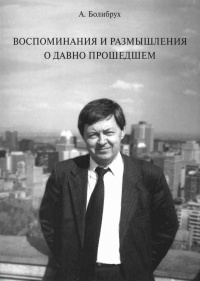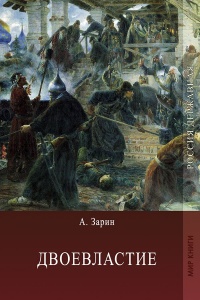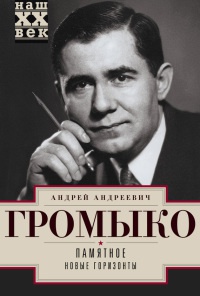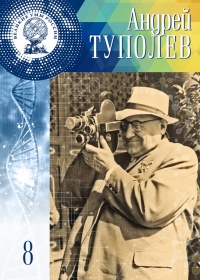– это была свобода. Когда все противники забастовок в ответ начинали их выкидывать из аудиторий, – это было насилие.
Точно также мыслило о свободе наше студенчество и во всех остальных случаях. Убить бомбой градоначальника – это акт высокой морали. А повесить убийцу градоначальника – акт глубочайшего падения нравственности.
Ранить из подворотни городового – проявление свободного творчества. Получить за это ссылку в Сибирь – чудовищное проявление произвола…
Да и только ли одна студенческая молодежь так, по-негритянски, понимала свободу? А какое было мышление в этом вопросе у большинства вашего общества?
Например, каким преследованиям со стороны носителей передовых идей подверглись в Москве профессора Виноградов[526], Ден[527], Озеров[528], Вормс[529], Мануйлов[530], рискнувшие читать лекции для рабочих, объединенных в созданный правительством «зубатовский» синдикат! Затравленным профессорам пришлось бросить неосторожное чтение лекций и долго каяться, чтобы получить прощение от любителей гражданских свобод.
А какая была любовь к свободе печати и слова у тех же самых ревнителей социального счастья! Ведь, вот, например, Мережковский и Зинаида Гиппиус – всецело принадлежали к их лагерю. Но какую бурю негодования пришлось выдержать Мережковскому, когда на заседании религиозно-философского общества он честно заявил, что с точки зрения канонической Синод был прав, отлучив Льва Толстого от церкви!
«В России, – писал после этого Мережковский, – образовалась вторая цензура, более действительная и более жестокая, чем правительственная: это цензура общественного мнения».
А Гиппиус, касаясь той же благородной цензуры, открыто заявляла в печати:
«Есть вопросы и имена, о которых совсем нельзя высказывать собственных мнений».
* * *
И, все-таки, вся эта нетерпимость к чужой свободе у нас могла найти оправдание в том, что исходила она из идеалов общего, даже вселенского блага. Обладая убогой головой, наша интеллигенция несомненно имела богатое сердце.
А здесь, на Западе, какие идеалы влекут людей к осуществлению свободы?
Студенты-медики манифестируют, требуя свободы от иностранных врачей, отбивающих практику.
Инженеры пользуются священной свободой стачек во имя увеличения жалованья.
Рабочие во имя того же повышения губят свои предприятия, видят свободу в установлении пикетов, видят насилие в требовании властей о снятии их.
И вот при таком опрощении идеалов – какие интервью, даже в виде сборников, помогут выяснению границ между свободой для себя лично и свободой для своих ближних?
Пусть во имя этой проблемы соберутся для голосования все парламенты мира, все академии наук, все объединения писателей, журналистов, музыкантов, врачей, инженеров, художников, портных, стекольщиков – бесполезно: решение будет не яснее бердяевской белиберды.
Ибо вне христианского самосознания, которое сейчас угасает, и вне христианской морали, которая сейчас падает, вопрос о свободе не разрешим. При исчезновении светоча истинной любви к ближнему, люди начинают душить друг друга в потемках. И никакие высокие мысли, никакие утончения культуры, никакая образованность, никакие смокинги, галстуки, полеты по воздуху, слушания радио не могут помочь: человек непреодолимо возвращается к своим далеким предкам, в джунгли, в бруссу. И ощущает одну только первобытную правду:
– Свобода это – когда я ем врага. Насилие – когда враг меня ест.
«Россия», Нью-Йорк, 18 июня 1949, № 4154, с. 3[531].
К познанию самого себя
Познакомился я в Париже с одним русским помощником режиссера одной кинематографической фирмы. Очень милый, обаятельный человек.
Как-то собрались мы у него небольшой компанией, стал показывать он нам снимки из различных фильмов, которые «крутились» при его участии. А затем вдруг говорит:
– Знаете что, господа? В ближайшее воскресенье я думаю отправиться в медонский лес, чтобы выбрать там место для одной сценки из будущей нашей комедии. Возьму с собой и портативный аппарат для пробных снимков. Может быть, хотите сняться? Когда проявлю, покажу, как вы гуляете по лесу…
Нас, гостей, кроме меня, было еще трое: Анна Васильевна, почтенная дама лет шестидесяти, маленького роста, бывшая когда-то хорошенькой, хрупкой женщиной, но в последние пятнадцать лет, начавшая неудержимо расти в ширину и приобретать излишние придатки к лицу, вроде второго подбородка и мешков под глазами. Другая дама, Вера Петровна, приблизительно того же возраста, была, наоборот, довольно худой и вполне сохранила свою фигуру. Но покрытое сетью морщин лицо делало ее старше своих лет, и кроме того, ревматизм ног делал походку не вполне элегантной. Что касается третьего гостя, то был это милейший Анатолий Сергеевич, муж Анны Васильевны, старый генерал, сохранивший бравый вид и подвижность, несмотря на свои семьдесят лет. Но о его наружности, как и своей собственной распространяться не буду: для мужчин, как известно, это не так важно.
– Ну, что же… – нерешительно произнес Анатолий Сергеевич, выслушав предложение хозяина. – Это, конечно, заманчиво, Иван Николаевич. Но, только, не смешно ли мне, на старости лет, разыгрывать ведетту[532]? Как будто бы не того… А?
– Да тут дело не ведеттах, ваше превосходительство, а просто так… Документальный маленький фильм для друзей.
– Вот разве документальный. Ну, ладно. А ты как, Аннушка?
– Я? Хорошо. Спасибо, Иван Николаевич. А… Как для этого нужно одеться?
Она застенчиво опустила глаза и затем смущенно взглянула на помощника режиссера.
– Как одеться? – удивленно ответил тот. – Да никак. Надевайте то, что надели бы для обыкновенной прогулки. Но вот что было бы, господа, желательно, это – чтобы вы все немного подкрасились. Брови чуть-чуть подчерните, глаза обведите, если можно, щеки, губы…
– Что? Я буду подкрашиваться? – вспылил генерал. – Никогда в жизни!
– Нет, нет, ваше превосходительство. Не волнуйтесь. Можете и так. Я это главным образом для дам… А мне все равно.
* * *
Погода в тот день была прекрасная. На небе – ни облачка. Съемка обещала быть удачной. Энергичный Иван Николаевич бодро шел по лесной дорожке, внимательно оглядываясь по сторонам, а мы, как могли, старались не отставать от него. Анна Васильевна достала из сумочки платок, но только обмахивалась им, боясь прикоснуться к влажному лбу, чтобы не смазать краску. Вера Петровна все чаще и чаще с недовольством поглядывала на свою правую ногу; генерал смял пиджак и, отдуваясь и фыркая, что-то бурчал про себя. А я плелся сзади, прикладывал руку к сердцу, чтобы узнать, как оно бьется, и внимательно смотрел вперед, боясь, чтобы наша процессия внезапно не исчезла из глаз где-нибудь на спуске или на повороте.
– Ну, вот, здесь, пожалуй, – остановившись, удовлетворенно сказал, наконец, Иван Николаевич. – Тут обрыв… Виден сквозь деревья Париж… И скамейка среди зелени есть для влюбленных. А дуб какой, посмотрите!
Мы радостно расположились на скамейке, стали разворачивать свертки с едой. А неутомимый Иван Николаевич ходил с одного конца поляны на другой, смотрел на скамейку с разных сторон, разглядывал деревья, вид на Париж. И, наконец, стал подготавливать аппарат к съемке.
– Господа, – сказал он, окончив приготовления и подойдя к нам. – Подождите пока завтракать. Сначала сделаем съемку. Сейчас свет хорошо падает.
– Что ж,