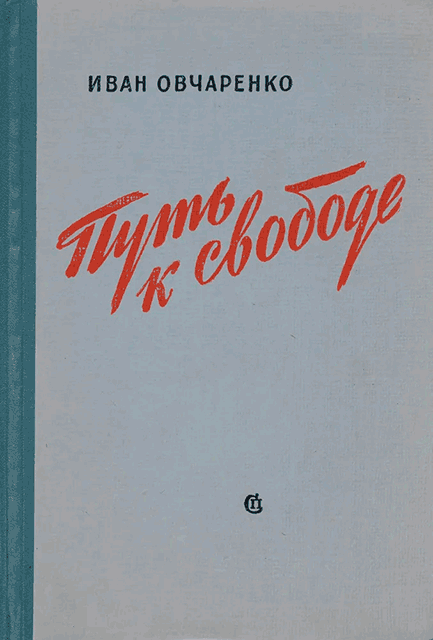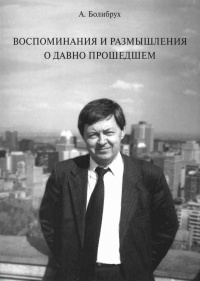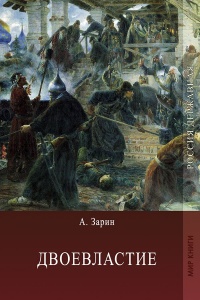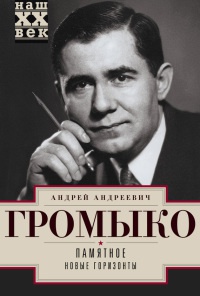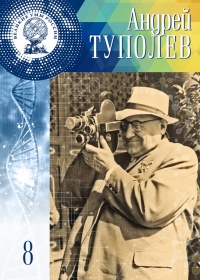нет ни идиотской гражданственности, ни извращенной религиозности. И пока читаю его рассказы – ничего. Но как дойду до пьес – опять волноваться начинаю. Вот подумайте: бездельники продают свой дом купцу, переезжают со всеми вещами на новое место, никто за ними не гонится, ни от кого бежать не приходится… И что же? Целая драма! Вот посмотрел бы я, что запели бы они, если бы пришлось бежать из собственного дома с черного хода с одним чемоданчиком в руке, и не только не получить за недвижимость деньги, но бросив даже белье, тарелки и ложки! А то вот еще… Сидят никчемные типы в имении, ничего не делают, кроме подведения итогов по запущенному хозяйству… И говорят: «Мы отдохнем… Мы увидим небо в алмазах»… Алмазы им в небе понадобились! Отдых! А в шахты не хотите? А в фамм де менаж пойти не угодно-ли? Или например «Три сестры»… Сидят в ста верстах от Москвы и скулят: «в Москву, в Москву!» Ну, хочешь в Москву, и переезжай. Что за трагедия? Наши дамы даже в Венесуэлу едут без разговоров. А эти? Кому нужны теперь такие пьесы? И главное, сам автор думал, что все это трагедия! Вот, между прочим, люблю я Тютчева. Хотя и у него вместо Бога часто фигурирует бездна, и это меня как верующего немного коробит, но, в общем – хороший поэт. Но иногда и он срывается. Глупости говорит. Вспомните хотя бы «Цицерона»:«Счастлив, кто посетил сей мирВ его минуты роковые.Как собеседника на пирЕго призвали всеблагие…»
Как это вам нравится? Живет камергер в довольстве, в спокойное время, с прохладцей занимается дипломатической службой, катается за границу в качестве посла при Сардинском дворе… И рассуждает о роковых минутах мира. А посмотрел бы я на него сейчас, если бы жил он в нашу эпоху… Был бы счастлив, бегая из одной страны в другую без башмаков и штанов? И считал бы себя собеседником на пире богов?
Долго еще ворчал мой старик. Дав ему высказаться до конца и подождав, пока он встанет с постели, я, наконец, приступил к делу. И когда переговорили, о чем нужно, я спросил его, как бы невзначай:
– Хорошо, Василий Николаевич… Ну вот вас многие писатели и поэты раздражают. Понимаю. А Пушкин? Как вы относитесь к Пушкину?
Лицо старика просветлело. Расплылось в радостную счастливую улыбку.
– Пушкин? О, Пушкин – это мой доктор. Целитель! Здоровые люди едва ли поймут меня. Но исключительное величие Пушкина именно и состоит в том, что его могут читать и тяжело больные, и совершенно здоровые, и злобные, и благодушные, и ребенок, и старик, и богатые, и бедные, и в горе, и в радости, и в наше время, и в прежнее, и в будущее, и во веки веков. Вот, действительно не просто талант, а гений! Только истинный гений никогда не вызывает улыбку снисхождения у своего читателя. И только у истинного гения нельзя найти ни одной строчки, против которой можно на полях написать: «дурак»!
«Россия», Нью-Йорк, 8 июня 1949, № 4146, с. 2–3.
Неразрешимый вопрос
Французский журналист Жан Дюше выпустил книгу под заглавием «Европейская свобода».
Целью автора было – выяснить: какие взгляды на свободу высказываются сейчас на в мировом общественном мнении. Для этого в книге приведены беседы с лицами, голос которых может представить интерес: с Кестлером[520], Рамюзом[521], Франсуа Мориаком[522], Сартром[523], Давидом Русселем и многими другими.
Получилось в общем нечто вроде сборника своего рода интервью, в которых каждый из опрошенных старался дать свою формулировку свободе.
Рамюз, например, сказал:
«Свободы вообще не существует. Это – великое слово, которое каждый присваивает себе. Коммунисты сражаются за свободу. Либералы – тоже. А затем они сражаются друг против друга тоже во имя свободы. Нет, не говорите мне о свободе. Я верю только в независимость».
Кестлер в свою очередь заявляет, что свобода не осуществима при социализме:
«Мы, социалисты, думали раньше, что социализм обязательно связан с уважением к правам и достоинству человеческой личности. А теперь видим, что национализированная экономика может служить базой тиранической структуры государства».
А что касается писателя Серстевана[524], то на вопрос о современном кризисе понятия свободы, он просто ответил:
«Мне плевать на своих современников».
В общем, книга Дюше любопытна и даже забавна. Но как ясно говорит она о ничтожестве и убожестве нашего века!
Где теперь настоящие мыслители, настоящие авторитеты, к голосу которых стоит прислушиваться? Были времена, когда современникам можно было справиться у Руссо: как определяются границы свободы общественным договором? Или осведомиться лично у Канта: как с точки зрения требования практического разума в конституционном государстве должны пониматься права человека? Или спросить непосредственно Гегеля: как свобода частных интересов должна согласоваться с законом саморазвивающегося разума?
А теперь? Кого спросишь? Почтенного Серстевана, которому плевать на современников? И на которого современникам тоже наплевать?
В виде опоры нет сейчас в мире не только Джона Локка, Руссо, Канта и Гегеля, но даже второстепенных авторитетов в вопросе о личной свободе, вроде Пуфендорфа, Гамильтона, Джефферсона…
Не считая Бергсона, был до последнего времени один человек, которого в Европе считали настоящим мыслителем: это – Бердяев. Но сев в вопросе о свободе между двух стульев, желая угодить одновременно и Богу и дьяволу, и демократии и большевизму, Бердяев в последние годы так запутался в своих несвободных изысканиях о природе свободы, что в конце концов сам перестал понимать себя. Превратился, по справедливому выражению П. Струве[525], из Бердяева в Белибердяева.
И, вот, сейчас, при отсутствии настоящих мыслителей, пытается осиротевшая европейская философская мысль взяться за вопрос о личной свободе, старается хотя бы при помощи интервью сколотить общий взгляд на эту мировую проблему.
И в результате доходит до высшего пункта современного мировоззрения:
– Наплевать…
Ведь не даром в настоящее время модным автором для европейской интеллигенции является де Сартр со своим экзистенциализмом: единственно истинное и единственно главное в жизни – это существовать. А как существовать, чего придерживаться, кроме приятных инстинктов – не важно. Поэтому и о свободе сейчас принято только кричать, но не думать. Кричать именно в духе экзистенциализма: о свободе не для других, а для себя. С «присвоением свободы», по формулировке Рамюза.
* * *
Все это убожество нынешней европейской интеллигенции невольно напоминает нам, русским, нашу былую студенческую молодежь, тоже вечно кричавшую о свободе для себя и для «своих», и с презрением и ненавистью относившуюся к свободе инакомыслящих.
Когда наши студенты кидали в головы городовых и казаков бутылки, камни, палки – это была свобода.
Когда же городовые в ответ разгоняли их, а казаки слегка пришлепывали нагайками, это было насилие.
Когда студенты устраивали в аудиториях химические обструкции