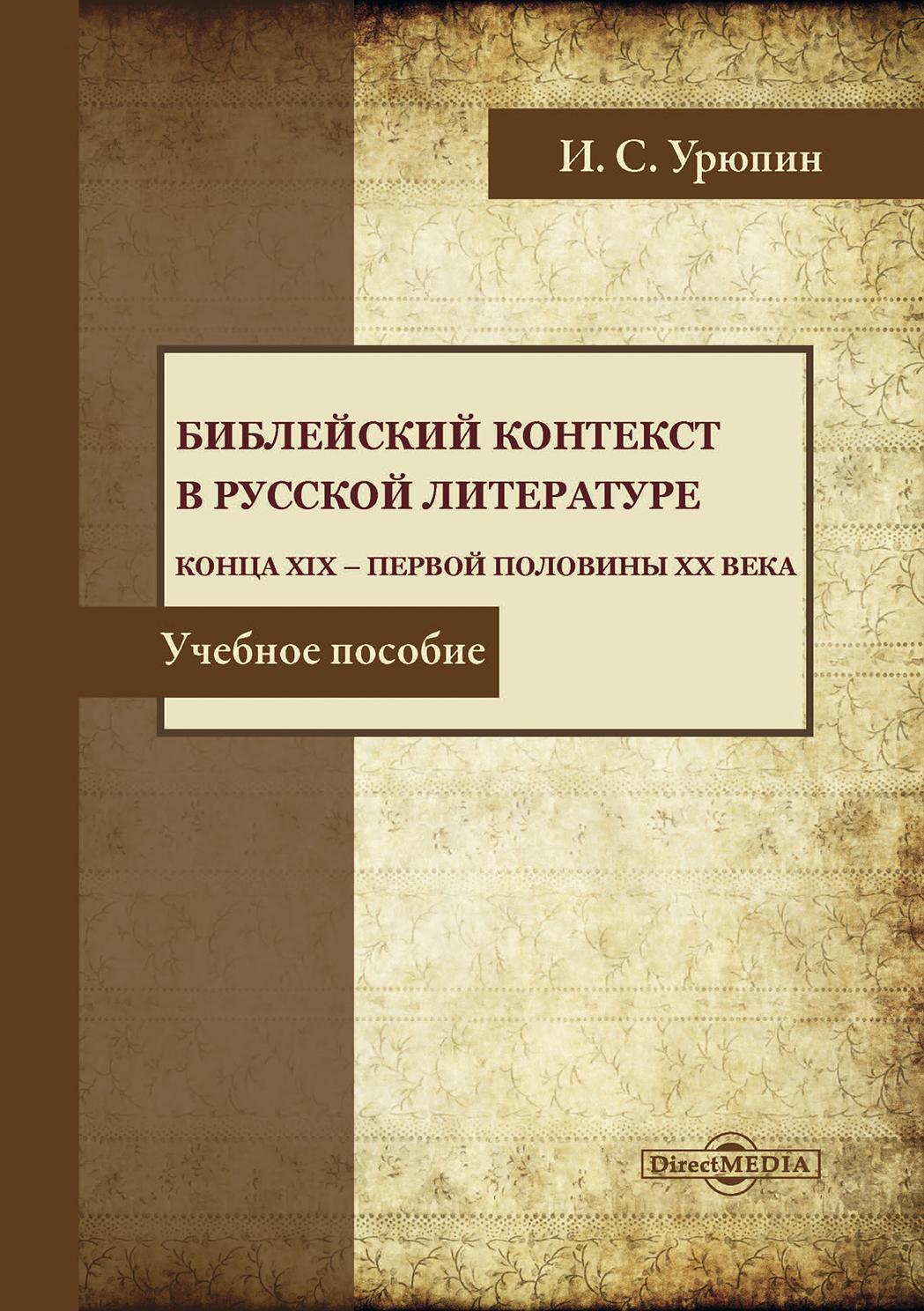гиперреализму, фотореализму и сюрреализму. Сюрреалистическая литография Виктора Пивоварова «Муха на яблоке» (1972) представляет собой коллаж из реалистичных вещей (яблока, карандаша, мухи и фигур в шляпах-котелках), однако объекты расставлены на белом фоне необычным образом, с искажениями масштабов (например, карандаш больше, чем фигуры людей). На гиперреалистичном полотне Игоря Тюльпанова «Красная комната» (1968) перед нами открывается вид на квартиру художника, которую заполняют тщательно выписанные предметы из прошлого и настоящего: чернильница, картина Богоматери с младенцем Иисусом в стилистике Ренессанса, игральные карты, бабочка и многое другое (см. рис. 1.1). Хотя каждый предмет сам по себе представлен крайне реалистично, Тюльпанов играет с перспективой помещения, выравнивает глубину и даже рисует элементы подрамника по бокам, создавая впечатление, будто мы смотрим на холст сзади. Сергей Шерстюк подступается к реализму в ином ключе. «На море» (1981) выглядит почти как фотография: мы видим двух людей у моря; женщина прикрывает лицо руками, а мужчина поворачивается в ее сторону (см. рис. 1.2). Зритель лишен возможности понять истину представленной сцены. Эти люди знакомы друг с другом? Поссорились ли они? Или нам только так кажется из-за случайных аспектов языка тела? Семен Файбисович выводит фотореализм на новый уровень в «Двойном портрете художника за работой» (1987). На полотне Файбисович запечатлел собственное отражение в окне поезда, но лицо скрыто как камерой, которую художник держит перед собой, так и множеством отсвечивающих поверхностей. Люди, поезд и природа сливаются в неясное отображение сложной и многоликой реальности (см. рис. 1.3)25. Все указанные примеры иллюстрируют и неизменный интерес художников к правде и действительности, и различные точки зрения на сущность этих категорий, которые невозможно свести к простому дуализму.
Рис. 1.1. Игорь Тюльпанов (род. 1939), «Красная комната», 1968 год. Масло, холст (119,5 х 158,5 см)
Художественный музей Джейн Ворхиз Зиммерли, Ратгерский университет. Коллекция советского нонконформистского искусства Нортона и Нэнси Додж, D06252. Фото: Джек Абрахам (Jack Abraham)
Гласность сдвинула некоторые акценты в общем дискурсе, но в целом 1970-е и 1980-е годы были временем, когда советская интеллигенция размышляла в первую очередь на тему исторической памяти. Внимание к этой проблематике лишь усиливалось в течение брежневской эпохи и в начале 1980-х годов вплоть до прихода к власти Горбачева. Как замечает Катерина Кларк, «интеллигенция была помешана на прошлом, и эта одержимость не шла на убыль». Осмысление прошлого происходило по всему политическому спектру: от националистов и людей, выступавших за восстановление религии в ее правах, до интеллектуалов, которые воспринимали себя биографами или хранителями архивов тех, кто подвергся репрессиям. На 1980-е годы пришелся и возврат прошлого в материальном виде: газетные сюжеты о травмирующих событиях, архивные фотографии избиений и пыток политзаключенных и множество мест массовых захоронений, относящихся к сталинскому времени26. Значительная часть кинофильмов и литературных произведений обращалась в эпоху гласности к «знаменательным эпизодам национального прошлого». Сформировался новый архетипичный образ: «интеллигента-мученика, трагически вынужденного выступать носителем культурной памяти». Все больше исторических персоналий и событий привлекали всеобщее внимание по мере того, как фильмы и книги, которым не давали увидеть свет на протяжении последних 70 лет, впервые находили аудиторию. Границы между прошлым и настоящим оказывались размыты, что в некоторой степени осложняло обнаружение момента под названием «Сейчас»27. Одержимость прошлым могла мешать линейному восприятию времени.
Кларк также обращает внимание на то, каким именно образом воспроизводились те или иные исторические периоды – особенно без устоявшихся канонических интерпретаций – для того, чтобы толковать настоящее. Он сопоставляет, в частности, дореволюционные трактовки Великой французской революции и помешательство на прошлом в 1970-е и 1980-е годы. Многие писатели и кинематографисты фокусировались тогда на 1920-х и 1930-х годах в надежде, что там они смогут найти ответы на вопросы, заботившие их самих и современников. Если в кино упор делался на демонстрации зла, которое нес в себе сталинизм, то литераторы были склонны идеализировать 1920-е годы как некое золотое время. Эта стратегия явно прослеживается в эссе Ивашкина, где сопоставляется русская музыка 1920-х и 1980-х годов28. Кларк также выделяет другие примеры проявления и применения прошлого: некоторые авторы силились обнаружить отправную точку скатывания советского общества в сталинизм; интеллигенция искала собственные истоки в XIX веке; кто-то ставил под вопрос бесспорные исторические вехи; были те, кто подчеркивал случайность мировых событий, и те, кто размышлял о существовании нескольких временных плоскостей одновременно29.
Рис. 1.2. Сергей Шерстюк (1951–1998), «На море», 1981 год. Масло, холст (119 х 152 см)
Художественный музей Джейн Ворхиз Зиммерли, Ратгерский университет. Коллекция советского нонконформистского искусства Нортона и Нэнси Додж, 2000.1333/05114. Фото: Джек Абрахам (Jack Abraham)
Споры насчет места постмодернизма в Восточной Европе и России неизбежно фокусируются на 1970-х и 1980-х годах и пришедшемся на это время увлечении проблемами исторической памяти. Начиная с 1970-х годов литература, искусство и музыка Восточной Европы и России, обыгрывая и ликвидируя эстетические условности, принимает явно постмодернистские черты, по крайней мере визуально и на слух представителей Запада. Сторонник идеи русского постмодернизма Михаил Эпштейн описывает искусство и литературу этого времени как «конечные», как сигнал близящегося конца коммунизма. С этой точки зрения, мы здесь утрачиваем возможность апеллировать ко времени. Линейная прогрессия времени будто начинает резко тормозить. Распад наших воззрений на историю – предпосылка для наступления заключительного этапа коммунизма30.
Рис 1.3. Семён Файбисович (род. 1949), «Двойной портрет художника за работой», 1987 год. Масло, холст (150,4 х 75,6 см)
Художественный музей Джейн Ворхиз Зиммерли, Ратгерский университет. Коллекция советского нонконформистского искусства Нортона и Нэнси Додж, D05392. Фото: Джек Абрахам (Jack Abraham)
Борис Гройс, придерживающийся схожей позиции, замечает, что уже сталинское время можно назвать постмодернистским, поскольку тогда история выступала как некий склад, откуда человек мог в любой момент вытащить какой-нибудь предмет и после некоторых преобразований утолить им потребности по обоснованию действительности. Гройс полагает, что к 1970-м и 1980-м годам деятели неофициального искусства начали предпринимать попытки вновь обратиться к истории, но обнаружили, что от нее остались одни руины. Частично в этом повинен сталинский режим, в определенной степени – «переход всего мира к эпохе после конца истории». Теория Гройса определенно свидетельствует о повышенном интересе к истории и к тому, какими многочисленными способами хронология времени распадалась на отдельные фрагменты в различных произведениях искусства. Однако примечательно, что Гройс, частично виня в этом развале сталинизм, пишет так, словно постмодернизм – объективный универсальный феномен, который охватил сразу весь мир31.
Вместо того чтобы винить в распаде линейности некую абстрактную категорию