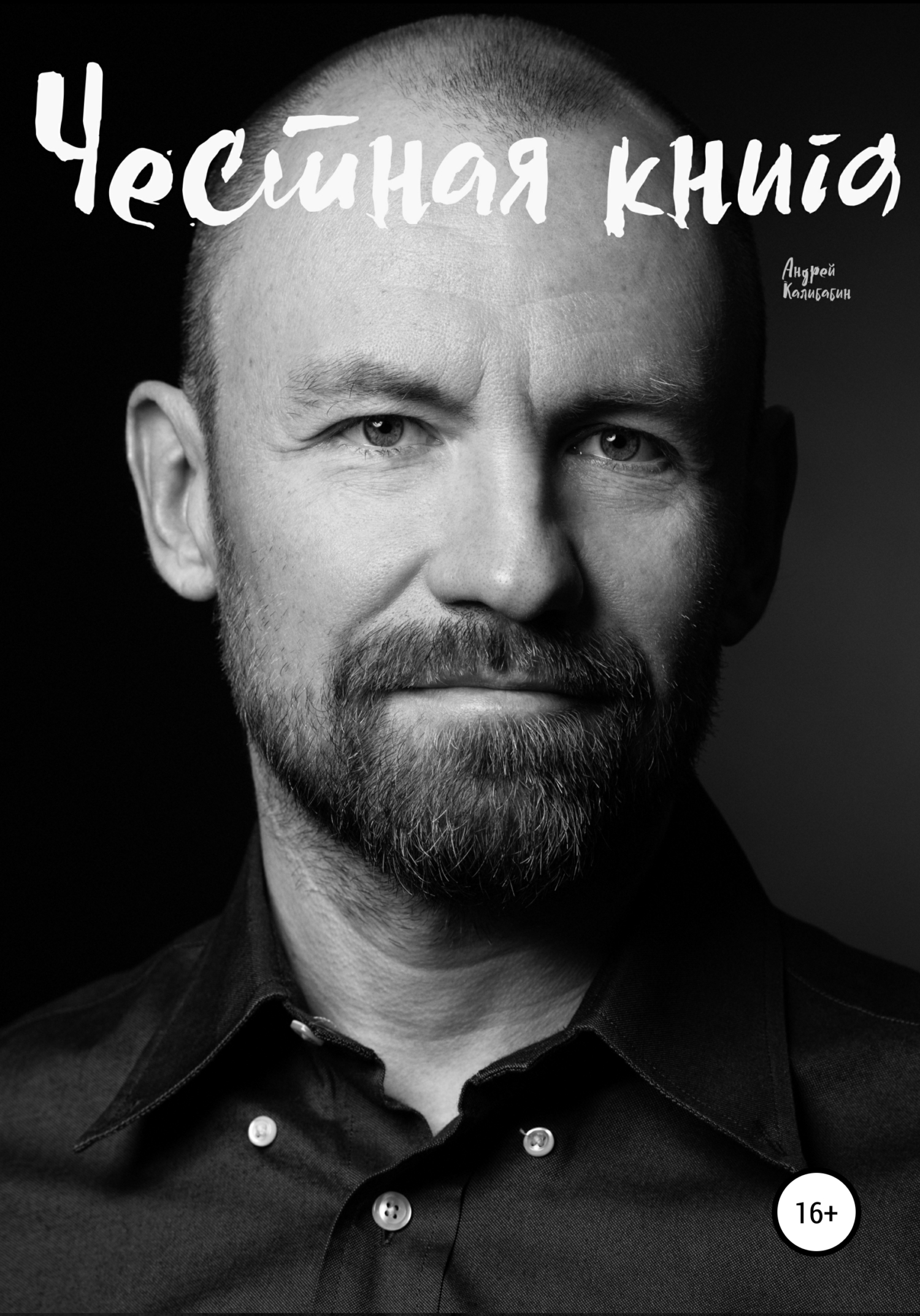остановились перед столом, подождали, пока Астюк надевал и застегивал на все пуговицы пальто, а потом старик с широкой рыжей бородой сказал:
— Вы не подумайте, товарищ, про нас что-нибудь плохое. Мы народ темный, ничего не знаем. Кричим мы потому, что говорить не умеем. Разговор нам мало помогает, так мы кричим. А кого и научат, чтобы кричал...
— Э, кто там учит,— вмешался в разговор еще один.— болит, так мы и кричим. Темный народ не видит пути-дороги и зовет, а может, кто и отзовется...
— Почему не учат? У-учат,— проговорил первый.
* * *
На станцию Астюк ехал, когда уже совсем смеркалось. От собрания у него осталось очень тяжелое впечатление. И сложилось оно, наверное, потому, что собрание было слишком шумным и Астюк не сумел произнести свою вторую речь до конца. И еще брала злость, что послали его в такое далекое от железнодорожной станции место. Злился Астюк на партком, и на партком хотелось взвалить вину за шумное собрание, за тяжелую крестьянскую жизнь. Немного успокоившись, он уже думал, как напишет свою докладную записку президиуму и ОИК и в записке выскажет всю свою злость. Намеревался обвинить в записке кого-нибудь за это крикливое деревенское собрание.
Повозка катилась ровно по глубокой, вырезанной за многие годы колее, и колеса потихоньку вздрагивали. Это успокаивало. Астюк молча сидел, откинувшись плечами к задней спинке, и смотрел в спину молчаливому подводчику. Иногда колесо попадало в ямку. Тогда вдруг наклонялась на бок повозка, сильно вздрагивала, и Астюк ударялся локтем о боковую спинку. Мысли прерывались, но быстро опять возвращались, и Астюк опять успокаивался.
VII
Большая рыночная площадь горбилась покатым квадратным холмом среди низких деревянных хат окраины, и испуганные хаты разбежались по сторонам и столпились вокруг узких переулков, и на площадь поглядывают несмело из-за густо зачастоколепных палисадников. Из-за хат, с поля, что за окраиной, прилетает сердитый северный ветер, гонит на площадь сухой мелкий снег, обсыпает снегом людей, подводы, лошадей.
Из узких переулков выползают коренастые мохнатые крестьянские кони, тянут за собой по скользской городской дороге низкие санные возы и, тяжело упираясь, выползают на холм. Еще в переулке соскакивает крестьянин с воза, оглядывает заполненную площадь, выбирает место, чтобы проехать через рынок, на избранную стоянку. А рынок уже с самого утра живет своей, свойственной ему, жизнью. Густо снуют между возами люди, приезжают и уезжают подводы и растасовываются, как карты, по рыночному квадрату, занимают отведенные им места. Недалеко от большой улицы Либкнехта, где еще возвышаются высокие каменные белые дома, пришедшие сюда из центра, столпились подводы с зерном, картофелем, спрятанным в мешках, в соломе. Возле подвод женщины с корзинами, в которых куры, яйца, сыры, лук. Женщины и дальше рядами, почти до середины площади. В стороне от них возы с сеном, соломой, снопами. За ними близко, редкие, будто случайные здесь, возы с дровами. И дальше, занимая почти половину площади, столпились подводы с привязанными к саням коровами и лошадьми. Между подводами ходят торопливые люди с кошелками. На подводах сидят или стоят возле них люди, одетые в бурые кожухи, в серые поношенные армяки. Пряча от ветра головы в высокие воротники, они топают возле саней, чтобы не мерзли ноги, и лениво отвечают городским на вопросы о цене.
Клим пришел на рынок, чтобы купить дров. Он пересек площадь от самой улицы и остановился возле подвод, где продавались коровы и лошади. Покупателей и здесь было много. Они осматривали у коров вымя, обходили вокруг, давали поесть сена или пальцами щупали, сытая ли корова, и предполагали ее вес. Лошадям подолгу смотрели в зубы, осматривали копыта, грудь, потом стегали их кнутами, гадали об их ловкости или попросту так осматривали их, стоя в стороне.
Мохнатые крестьянские коровы ежились, вбирая в себя и так тощие бока и прижимались к возам, становясь задом к ветру. Кони топтались у саней, выбирая заснеженное сено, тоже поворачивались, чтобы ветер не дул в глаза, потом становились, слегка расставив задние ноги, и, вздрагивая всем телом, стряхивали с себя снег, согревались.
Клим стоял, поглядывая на высокого гнедого копя, вокруг которого ходило несколько мужчин. От коня отошел один из них и, поравнявшись с Климом, сказал:
— Двенадцать рублей за коня. Дешевле, чем гусь или курица...
Клим не поверил.
— Что вы, неужели?
— Да вон ведь! — он показал на людей, стоявших вокруг гнедого высокого коня.— Хозяин просит уже восемнадцать, а дают двенадцать... а за двадцать пять можно отличного, коня купить.
— Двенадцать рублей? — удивленно повторил Клим.
— И отдаст,— сказал мужчина,— Больше они и не дадут. Продают на шкуру, лишь бы с рук сбыть.
Мужчина пошел. Клим некоторое время постоял, думал о чем-то, потом пошел в сторону, где находились возы с дровами.
Низенький крестьянин, хозяин дров, подкладывал коню сена. Когда Клим подошел к дровам и стал осматривать их, хозяин выпрямился, держа горсть сена, и сказал:
— Дрова хорошие, гореть будут, как керосин, будут... восемнадцать рублей. Берите, каяться не будете...
— Восемнадцать рублей за воз дров? — удивленно переспросил Клим.
— А вы думали за что? — спокойно ответил крестьянин.— За воз, за мой воз...
— Дорого,— заметил Клим.
— А что теперь дешевое? — спокойно продолжал крестьянин.— Все теперь дорого...
— Дорого-то дорого, но ты же за дрова больше берешь, чем за коня...
— А что конь, конь не до толку нам теперь,— сказал крестьянин,— коня, может, и рад теперь кто-нибудь продать, хоть на шкуру, лишь бы сбыть, а без дров холодно, дров теперь никто не везет...
Сказал, хитровато улыбнулся и замолчал.
Клим ничего не ответил. Он отошел к другому возу, но крестьянин не позвал его назад, не предложил сбавить цену, на что немного надеялся Клим, а сел на воз и сидел молча, постукивая нога об ногу, согревался. Другие два воза дров, находящиеся на рынке, были меньшими, но цену за них просили такую же, и Клим опять вернулся к первому возу.
— Так не сбавишь, дядька, цену?
— Нет, мил человек, хочешь, бери, не хочешь, другой возьмет... дрова теперь нужны.
Клим стоял молча, осматривая дрова, готовый уже согласиться с тем, чтобы заплатить за них восемнадцать рублей, и не хотел сказать этого крестьянину, злился на себя, что не умел торговаться и несмело надеялся, что крестьянин сам сбавит цену, если постоять еще немного. Хотел уже молча отойти, побродить по рынку, но боялся, что придет кто-нибудь другой