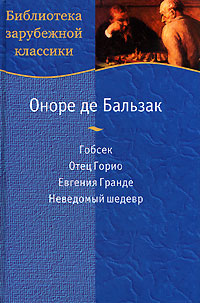боясь упустить ее, завернул на берег. На мели отдышались, постояли, оба не желая расстаться с водой — она была теплее воздуха. Подождав, пока Леха появится из дыма, Грахов спросил:
— Мыла у нас нет?
— Нет, — сказал Леха, ныряя в дым.
Грахов набрал мягкого сочного ила, стал натирать лошади бок. Досадливо бросил — ил отваливался, сочился по шерсти, не цепляясь за нее.
Отделившись от компании, шли берегом две девушки, важно и гордо несли легкие головы. Плотные, сильно тронутые загаром ноги ступали на траву небрежно, уверенно.
Грахов с надеждой, что они-то выручат, мучительно готовился окликнуть их. Потом насторожился. Что-то в их неслышно скользящих фигурах, в тусклых, будто невидящих глазах оскорбило Грахова; вдруг он догадался, что это — холод, примораживающий сердце, подобный тому, каким охватывало и его, Грахова, сердце, когда он не замечая ничего живого рядом, везде только сам себе виделся. Девушки проходили мимо с нарочитым равнодушием, давая сколько угодно дотрагиваться до них глазами; вот они какие красивые, щедрые.
И все-таки Грахов, пересилив себя, спросил:
— Нет ли у вас, извините, мыла?
Одна остановилась, другая шагала, не взглянув, будто услышала непристойность. Та, что задержалась, была проще, но и она, брезгливо взглянув на серую, как валенок, голову лошади, сказала:
— У нас только шампунь.
— Шампунь, — вслух подумал Грахов. — Я у вас куплю. Мне надо лошадь помыть.
Для девушки это прозвучало забавно: посмотрев вслед подруге, она засмеялась, пошла вдогонку; первая уже поравнялась с самосвалом, увидела за камышом рыбу.
— Откуда столько рыбы? — заинтересовалась она. Обернулась к Грахову: — Вы не знаете, что это за рыба?
— Она заснула, — неохотно откликнулся Грахов. — От гербицидов. Тут пролетал самолет, распылил ядохимикаты.
Девушки топтались возле камыша, как возле витрины. Будто прицениваясь, напряженно соображали, и вот одна, ткнув пальцем в белеющую на воде гущу рыбы, спросила:
— Она не свежая?
— Почему же? — сказал Грахов по-прежнему бесстрастно. — Мы из нее уху варим.
— Достаньте и нам, — предложила вдруг девушка. — Мы вам шампунь дадим.
Даже Фаворит понял: надо заплыть к рыбе, чтобы получить что-то взамен. Когда Грахов толкнул его в ту сторону, Фаворит покладисто двинулся к камышу, к которому ветром и рябью прибило всю рыбу.
Грахов обнял одной рукой лошадь за шею, другой вылавливал и бросал на берег рыбу за рыбой. Не считал даже сколько. Потом ждали плату. Шампунь принес парень. Спустившись вниз, подал флакон, спросил Грахова:
— А шашки у вас больше нет? Для хохмы.
— Какой шашки? — не понял Грахов.
— Ну, какой рыбу глушат.
Грахов невольно смерил его взглядом: парень стройный, гладкий, с ясными хорошими глазами. По виду заводила, затейник, всеобщий любимец. Грахов улыбнулся.
— Мы их в костер подкладываем, дров нет, — сказал он.
Вроде пошутил, а получилась, судя по дрогнувшим ресницам парня, издевка. Грахов отвернулся, повел Фаворита вглубь.
Слышал позади: «Ишака, что ли, моет?» — голос другого парня.
Смеялись громко, обсуждали, кого Грахов моет и кто он сам — джигит или караванщик? Грахов не обернулся, и скоро о нем забыли, даже Леха, позвав раза три, замолчал.
Грахов мыл коня с неожиданной для себя охотой, у него самого тело очищалось постепенно от гнета, свободно, легко дышалось ему. Светлая грусть сеялась из угасающего неба. Со всех сторон подкрадывалась тишина предвечернего часа. Солнце потеряло прежнюю яркость, и свет его косо падал на воду, на сияющие остриями камыши.
В этом беззвучии отдельно и упоенно шумела лишь большая компания. Словно устав от безмолвия в другом месте, наверстывала здесь.
Радиоприемники двух машин ловили разную музыку, и танцующие пары сбивались, сталкивались, высоко взлетал смех.
Грахова зазнобило. Выйдя из воды, он почувствовал себя нескладным, смешным в черных прилипших трусах. Он торопливо вывел лошадь на берег, привязал к иве, побежал к костру.
Видно было, Леха уже выпил водки, похлебал ухи. Лежа на спине, не открывая глаз, он протянул налитый, видимо, для себя стакан, сказал:
— Что же ты никак не вылезаешь из воды? Я ж ехать звал.
Грахов взял стакан, и его еще сильнее зазнобило от желания выплеснуть водку. Но на миг он представил, как Леха, вздрогнув белым животом, поднимается, как его красные глаза мечут упрек и обиду, и, холодея от одной мысли о скандале, поднес стакан ко рту. Пил опять неумело: поперхнулся, быстро черпнул ложкой ухи из ведра, обжег и без того обожженный горечью рот.
Внезапная тишина заставила Грахова оглянуться. Пьянея, он сел на теплый пепел, не сразу догадался, кого рассматривает большая компания.
Разглядывали Фаворита. Фаворит стоял под ивой, головой к воде, к золотисто-зеленому лугу за старицей, где он видел что-то ему лишь близкое, к чему тянулся всем своим длинным точеным телом. Он обсыхал и дымился. Прозрачный пар поднимался по тонким ногам вверх; легкий пар живым, трепетным светом обволакивал Фаворита, и казался он невесомым, призрачным сгустком света.
Снова чувствуя себя нескладным, ненужным здесь, влюбленно смотрел на лошадь Грахов. Она стояла по-прежнему без единого движения, навострив уши, ловила только ей доступные звуки.
Далеко на лугу Фаворит видел крохотный табун. Лошади, тускло поблескивая спинами, терялись в складках земли, появлялись, словно замирали и звали его. Он еще не слышал ни топота копыт, ни ржанья, но зов слышал — кровью, которая бежала в нем быстро и сильно, как если бы он бежал навстречу табуну сам. Но если и было в этой крови немного дикого, что толкало ударить острой подковой по узлу корды, срезать его начисто, чтобы пуститься потом в безумный, яростный бег, то сама же кровь, выдержанная, чистая, обуздывала себя.
Когда-то, молодой еще, не объезженный, он убежал от людей, долго бродил по полям, набегался и повалялся всласть и сам же вернулся в завод. Не было ни робости, ни смирения; привыкший к людям, к лошадям, он очень скоро затосковал, и тоска эта, пересилив короткую, мимолетную тягу к одиночеству, погнала его назад.
И теперь он, помня те бродяжные опасные дни и ночи, застыл выжидательно, не смел тревожить людей ржанием, только смотрел на движущийся табун. Стриганув ушами, уловил вдруг чуткую изумленную тишину вокруг. Оставаясь в прежней позе, он по взглядам, ощупывающим его, по немому восторгу, от которого стыдливо, тайком подергивалась обсыхающая кожа, догадался — глядят на него люди. Это было знакомо ему, так бывало перед скачкой, когда, убрав попону, прогуливали его.
В глазах Грахова сама собой сгустилась тьма, и в этих странных сумерках отпало, скрылось все лишнее — лошадь стояла одна, и чудилось, будто вглядывается она в оцепеневшие дали пустынной планеты, ждет первого человека. И виделся Грахову