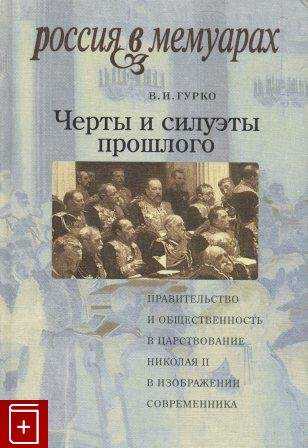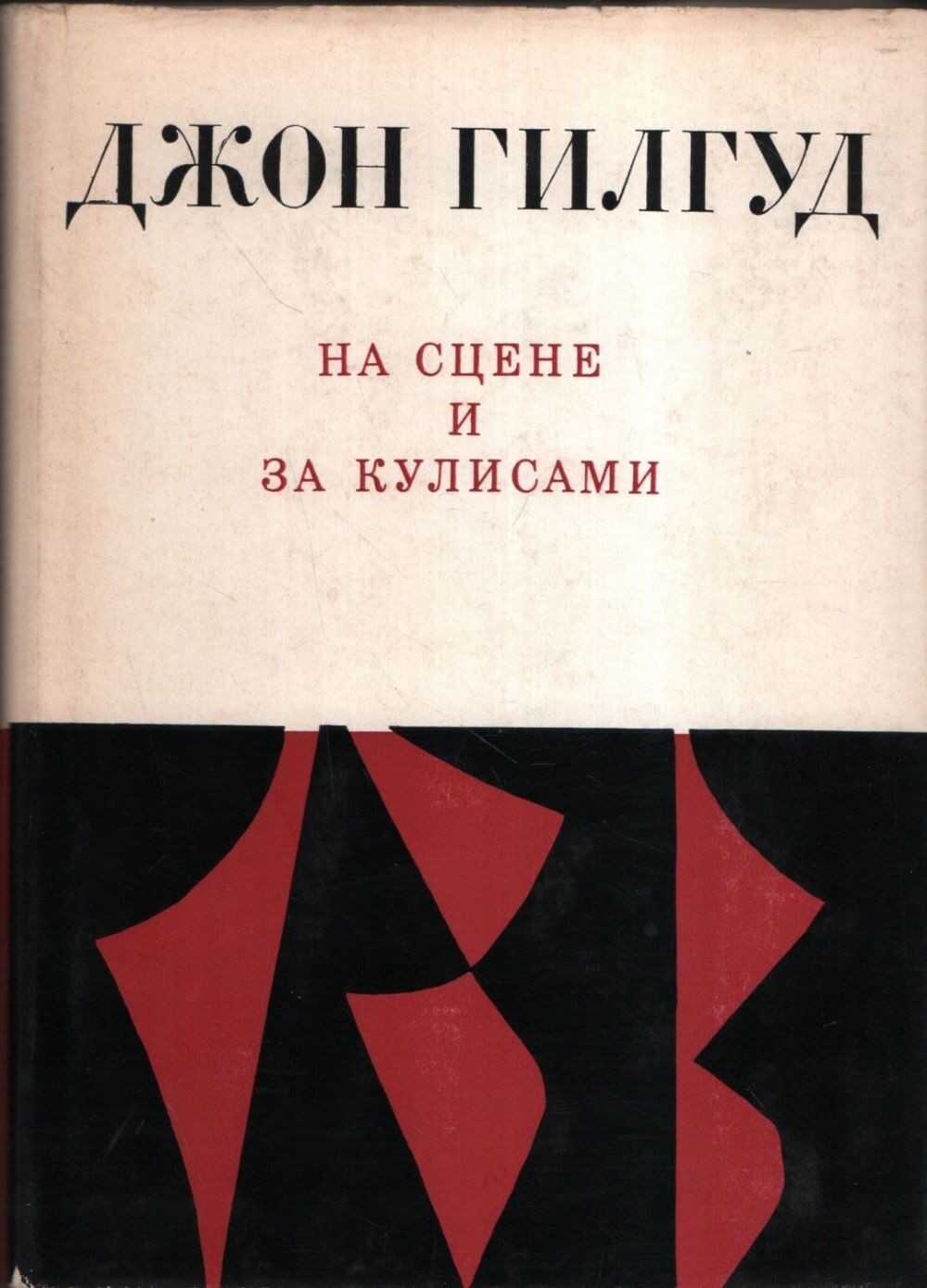очень жалею, что забыла это свое творение. Мне и теперь кажется, что стихотворение было действительно сильным и выразительным.Письмо Оли
Через некоторое время Оля прислала мне письмо из Харькова, к сожалению, без даты. Это была, вероятно, середина сентября 1919 года. Письмо ясно воссоздает облик моей Оли, наши отношения и те обстоятельства, в которых находился тогда институт.
Поражаюсь количеству орфографических ошибок в письме способной и хорошо учившейся девочки. Я писала тоже подчас с грубыми ошибками, несмотря на то что я много читала.
Привожу текст ее письма полностью.
Олино письмо
Адрес: г. Харьков. Сомовская ул. 1—25 Н.М. Петровой, для меня.
Милая, дорогая моя, славная Васюточка.
Как давно я тебе не писала. Веришь, столько непредвиденных дел, маленьких и больших, что, право, некогда было написать. Как только я от тебя приехала, нам заявили, что надо очищать квартиру. Начались поиски, конечно безуспешные. Одна комната, без отопления небольшая, со всеми неудобствами стоит от 400 р. до 1000 р. в месяц (в нагорной части) (а по окраинам положительно все занято). Мама, бедная, не знала, что делать. Ты понимаешь, что у нас творилось. Наш дом заняли под фабрику и уже перешли, а мы все никак не могли выбраться. Наконец нас приютила у себя одна знакомая, на Рашкиной даче (опять на старом пепелище). Но перевозка! Ужас. Одна подвода стоила в то время (т. к. подводы реквизировали) 500–600—700 рублей, смотря куда ехать. Наконец переехали.
Деньги, конечно, получили от продажи вещей. Ну, первые 2–3 дня устанавливались, потом как будто и ничего себе стало. Но вдруг заболевает мама. Температура 40, бредит, горит (это было ночью). Я, понятно, не спала. То компресс, то вода. Господи, думаю, неужели у мамы тиф? Кое-как дотянули до утра. Пришел доктор. Плеврит в очень сильной форме. Тут настали для меня деньки. Чуть с ума не сошла. Ночью с мамой вожусь. Утро настает, то воды принести, то дров расколоть, сготовить хоть какой-нибудь обед, об Тосе позаботиться, денег раздобыть, и все я одна. Только недавно мама стала поправляться, но ужасная слабость. Сейчас и то мама говорит: чего сидишь? Но уж тебе я не могу не написать.
Только раз вечером сидела и вылилось у меня стихотворение.
Сейчас у нас тепло, уютно и больнично. Горит огонь. Рутандле учит стих, и кажется на миг Под мамин бред, под звук дождя привычный, Я позабыла день…
Здесь идет продолжение, фантазия. Когда увидимся в институте, то прочту тебе все. Теперь у меня очень изменился стиль.
Эта картина самая спокойная за все эти ужасные вечера. Тосю я назвала «Рутандле». Так ее называла покойная тетечка. Васенька, будешь ли ты в институте? Детей добровольцев принимают бесплатно. Формы будут другие. Задержка только в приютских детях, 2 этажа уже освобождено, остался верхний. Занятия неизвестно когда начнутся. Тося ходит в гимназию I-ю пока, а я, к моему сожалению, не могу ходить, далеко, и самое главное, некому ничего делать. Васенька, почему ты мне не написала? Ты, наверно, думаешь, что я не хочу тебе писать? А может быть, и тебе было некогда? Думаю, что последнее предположение вернее. Как вы поживаете? Вы в Чугуеве или уехали? Как здоровье мамы, бабушки. Кланяйся, пожалуйста, всем. Мама передает привет Вере Павловне. В институт надо брать по 3 тарелки. 1 глубокую, 2 мелких. Ты одну мелкую не бери, т. к. я тебе отдам ту, что я разбила. Книги у нас в целости и невредимости. Пиши, голубчик Васенька, скорее.
Крепко, крепко целую.
Оля Феттер.
P.S. Кладу деньги для доплаты за письмо 1 р.
Последние дни института
Осенью 1919 года нас наконец собрали в институте. Эти последние месяцы существования института памятны мне особенно. Может быть, потому, что они были последними, может быть, потому, что действительно были особенными, может быть, потому, что я была уже старше.
Нас съехалось немного. Смолянки выбыли совсем, и о дальнейшей их судьбе я ничего не знаю. С ними выбыла и милая Ольга Максимовна. Свое место нашей классной дамы заняла опять Наталья Николаевна.
На верхних этажах института шел ремонт после пребывания там детского дома, и нас поместили в палатах лазарета. Я попала в ту самую палату, в которой некогда не совсем удачно учила наизусть «La parure» Мопассана. Со мной были Оля, Женя Лобова, Маруся Мельникова, еще несколько моих одноклассниц и девочки других классов.
Обедали все собравшиеся за общим столом в центральном зале лазарета.
Жить нам было трудно. Было холодно. В письме к маме от 3 ноября 1919 года я просила: «…пришли, пожалуйста, гамаши и перчатки, холодно ходить гулять. В здании тоже очень холодно, и мы мерзнем. Но на ночь я укрываюсь шубой, и мне тепло… Если есть что-нибудь теплое — фуфайка, или платок, или вообще что-нибудь такое, то пришли, пожалуйста, мамочка. Мои руки никогда не перестают быть сине-лилово-красными».
Мы голодали. У кого-то в нашей палате оказалась поваренная книга, и мы услаждали свой аппетит чтением вслух рецептов приготовления разных изысканных блюд.
Институт был разорен или разграблен. В том же письме к маме, в котором я говорила о теплых вещах, я просила прислать ложки, вилки и ножи, «а то приходится мясо грызть прямо с куска».
Занятий не было. Кто что хотел, то и делал. Я рисовала, шила к шестилетию брата суконные ботиночки.
Наталешку после ее возвращения на старый пост безобразно третировали старшие классные дамы. Я писала маме: «Наталешка до того ненавидит Чапкину и еще другую кикимору Анну Петровну, знаешь, в рыжей мантилье, что делает им рожи вслед, ни капли не стесняясь нашим присутствием. Меня она выбрала в поверенные и все мне жалуется на них и боится их, т. к. они распоряжаются ею и ее классом».