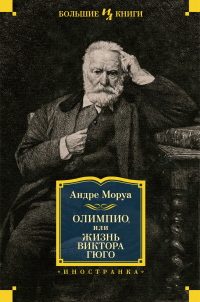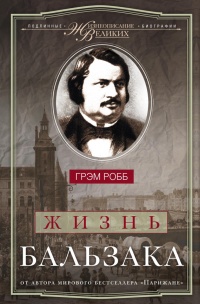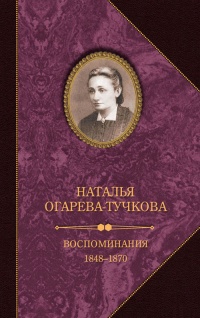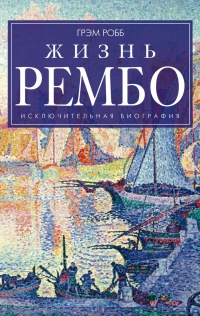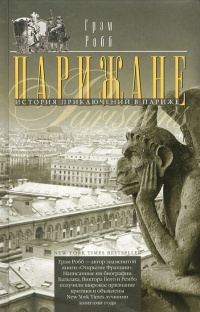Elle monte, elle monte, et monte, et monte encore,Encore, et l’on dirait que le ciel la dévore{1355}.
В семьдесят с небольшим Гюго, как ни странно, стал более последовательным романтиком, чем раньше. Он извлекал выгоду из источников своего позора.
В его дневнике прослеживается еще одна яркая антитеза; она появляется в те дни, когда он фиксирует в дневнике признаки очевидного «выздоровления» Франсуа-Виктора. Пишет об «улучшении», верит врачам и демонстрирует преувеличенный оптимизм отчаяния. Франсуа-Виктор умирал под прямым взглядом отца: «В кабинет сына поставили белый мраморный бюст, увенчанный лаврами, который лепил с меня Давид д’Анже… Он распорядился, чтобы бюст водрузили на большой пьедестал, задрапированный красным бархатом»{1356}.
Вскоре после возвращения Гюго с Гернси к ужину пригласили Эдмона Гонкура; он размышлял о проблеме поколений: «Франсуа Гюго лежит в шезлонге в сыром саду при доме; у него восковое лицо и далекий, нездешний взгляд; он обнимает себя руками, потому что ему холодно. Он грустен – как обычно бывают грустны те, кто страдает малокровием. Рядом с его шезлонгом стоит отец; вид у него суровый, как у старого гугенота из пьесы»{1357}.
Кстати, за ужином Гюго не ел ничего, кроме дыни, так как у него был приступ холерины (легкая форма холеры). Он разглагольствовал на свои любимые темы. Тогда его занимал институт, который должен выполнять функции интеллектуальной палаты лордов, этакое правительство Гуинпленов, куда будут выбирать всенародным голосованием: «В связи с этой темой, которая, похоже, стала его любимым коньком, он очень красноречив, полон прозрений, высокопарных фраз и проблесков великолепия»{1358}.
«Вечерний воздух становится промозглым. Франсуа Гюго мертвенно-бледен. Великий человек с непокрытой головой; на нем пальто из альпаки, но он не чувствует холода. Он крепок и бодр, его переполняют жизненные силы. Глядя на то, как мучается его сын, тяжело выносить его могучее здоровье…
Когда мы покидаем дом, Боше говорит: „Это настоящий тигр! Он вернулся только потому, что я позвал его. Меньше всего он сейчас думает о сыне! Он спит с квартирной хозяйкой, а также с высокой молодой женщиной, которая ласкает его…“»[58]
Конец «Девяносто третьего года», который Гюго тогда правил, стал печальным гимном грустной иронии Природы: «Природа безжалостна; она не желает перед лицом людской мерзости поступаться своими цветами, своей музыкой, своими благоуханиями и своими лучами». Франсуа-Виктор умирал, Гюго предавался распутству, а маленькие внуки – кусты под кипарисом – счастливо процветали: «Я играл в саду с малышами; они очаровательны. Жанна сказала мне: „Я оставила свои штанишки у Гастона“. Гастон – ее друг, пяти лет»{1359}.
На Рождество 1872 года появилась «ангел Бланш». На Рождество 1873 года умер последний психически здоровый ребенок Гюго.
«Я отдернул занавеси. Казалось, что Виктор спит. Я поднес его руку к губам и поцеловал. Рука была теплой и гибкой. Он только что отошел, и, хотя дыхание уже слетело с его губ, его душа была у него на лице… Я увижу всех вас снова, всех, кого я люблю и кто любит меня».
Гюго попросил певца Анатоля Лионнэ нарисовать Франсуа-Виктора на смертном одре. Два часа, пока Лионнэ рисовал искаженное страданиями лицо, Гюго сидел в комнате, где умер его сын, и точил для Лионнэ карандаши{1360}.
Франсуа-Виктора похоронили 28 декабря на кладбище Пер-Лашез. Естественно, отпевания не было. Луи Блана попросили произнести речь и «объявить, что душа бессмертна, а Бог вечен», что он и сделал, к удовлетворению Гюго. На похороны пришел и Флобер. Собралась большая толпа, но не было никаких непристойных политических выходок, что, как заметил Флобер, разочаровало бы католическую церковь: «Бедный старый Гюго (я не мог не обнять его) совершенно раздавлен, но держится стоически». «Фигаро» упрекнула его за то, что он пришел на похороны сына «в мягкой шляпе»{1361}.
В ту ночь Гюго лежал в постели без сна, наполовину растворившись в духовном мире: «Над самой моей головой я слышал нечто очень похожее на шорох птичьих крыльев. Стоял кромешный мрак. Я молился, как делаю всегда, а потом я заснул».
Глава 22. «Человек, который думает о чем-то другом»{1362} (1874–1878)
Вскоре после того, как Франсуа-Виктор «стал невидимым», Гюго принял одно из самых важных решений в своей жизни: он будет жить. Первые слова, написанные через два часа после наступления нового, 1874 года, приняли форму александрийского стиха: