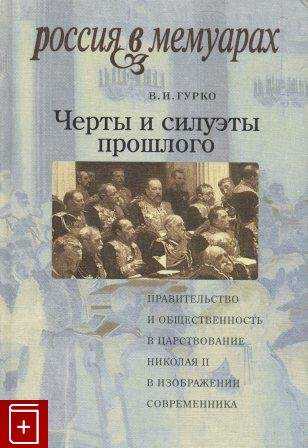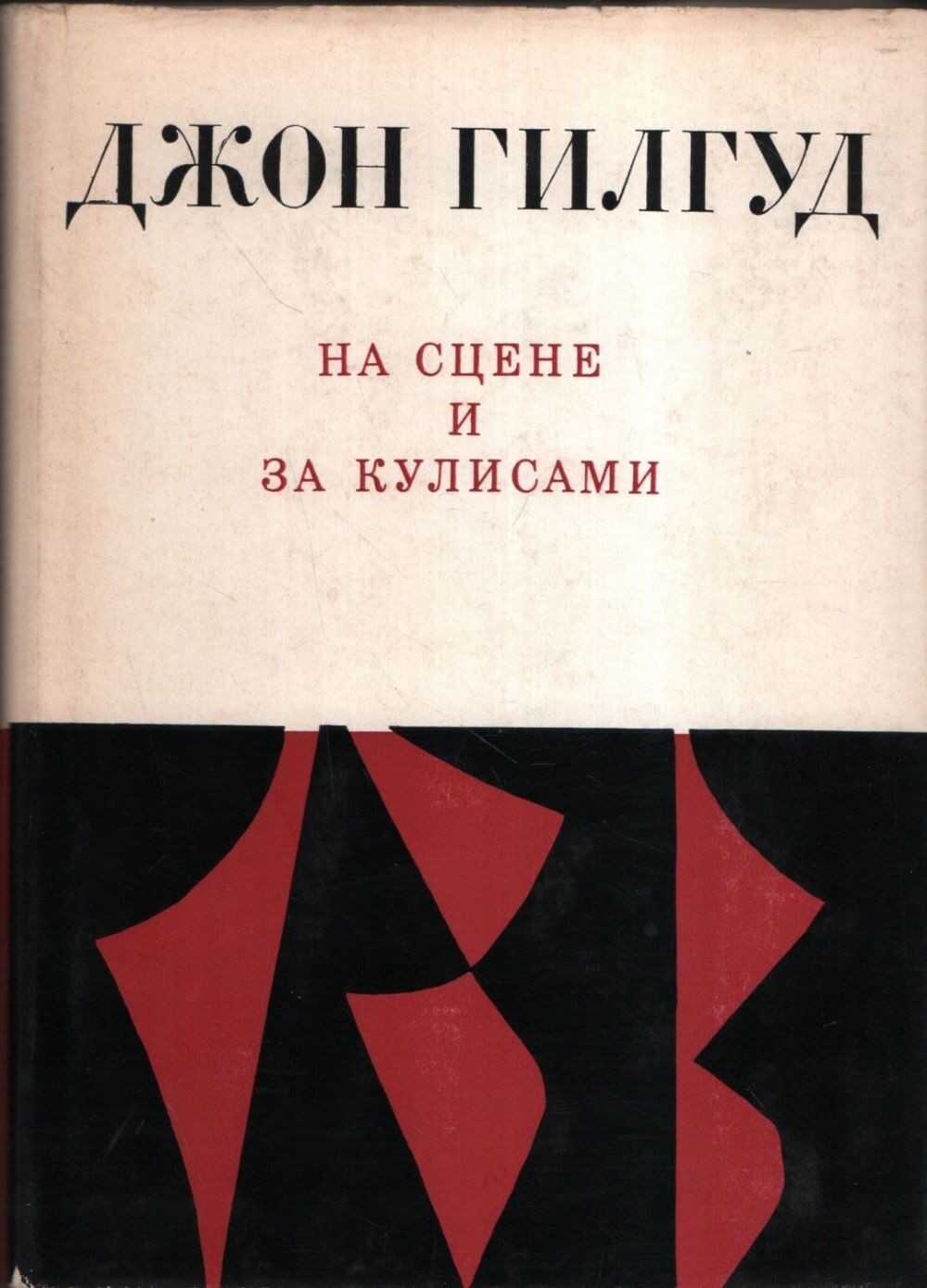Я смотрела на нее с недоумением, отчуждением и неприязнью. Ну, как она могла?! Разве она не чувствовала, что делает что-то стыдное, позорное?! И вот теперь плачет… Позор на весь институт…
Еще с большим недоумением я увидела, что Лена окружена особым, повышенным вниманием. Настоящая героиня дня! Она все время ходит, окруженная целой группой девочек, обнявшись. Что это? Что их так тянет к ней? Неужели скандальность истории? Скандальный душок?
Я взглянула на Лену. Личико ее было серьезно и бледно. А может быть… может быть, они более правы, чем я со своим отчуждением?! Может быть, они просто жалеют ее?
Через неделю та же история повторилась с нашей девочкой. И так же группа сочувствующих несколько дней ходила с ней обнявшись… А на лице ее я не заметила и тени смущения… Я недоумевала. Что же, голод сильнее всего? И можно все простить??
Нет! Нет!
Хлеб… Хлеб…
Выходя из столовой, я и Геня Буйко задержались и отстали от класса. У Гени в руках был ломтик хлеба. «Ты что? Не съела?» — удивилась я. «Я всегда оставляю часть своего хлеба для маленьких. Они трудней переносят голод».
Геня Буйко была девочка из Смольного, болезненная на вид и очень некрасивая. На ее круглом лице сильно выдавался вперед небольшой острый нос, а подбородок был резко усечен, и, если смотреть на ее лицо в профиль, оно образовывало острый угол. Кроме того, она была очень близорука и постоянно ходила в очках… Держалась она несколько обособленно.
И вот она, сама полуголодная, делится крохами своего хлеба… Нет, мне не понравилось ее самопожертвование. Мне почудилось здесь что-то ненормальное, нездоровое, родственное христианской жертвенности, своего рода самоуничижение. Мне даже показалось, что она своим самоотречением и великодушием хочет возместить свои физические недостатки, отсутствие внешнего благообразия. Может быть, так и было: своего рода форма самоутверждения…
Мне было органически чуждо ее настроение, а все-таки я подумала: «Геня Буйко несчастливая, но хорошая девочка. Одна таскает чужой хлеб, а эта делится своим последним».
«Покажите хорошеньких…»
Осеннее прохладное утро. Солнце едва успело бросить свои лучи сквозь сыроватую серую мглу. Пустынно на большой широкой улице города, слабо освещенной утренним светом. Серые здания молча глядят на серую же широкую мостовую. Прохожих нет. Воскресенье.
Но вот из ворот стоящего в глубине большого старинного здания медленно выходят какие-то черные фигурки. Целая вереница пар строго и молчаливо ползет из ворот и медленно движется по улице. Это мы, институтки.
«Бим-бам-бом!» — вдруг раздается звон церковного колокола. Медленно движутся пары черных шубок и шапочек. Мы идем в церковь. Почему мы идем в городскую, когда у нас есть своя? Я не знаю, я не помню. Может быть, был болен священник, может быть, это одно из нарушений порядка этих дней?
Перед переходом на другую сторону улицы мы остановились. К Евгении Владимировне, сопровождавшей наш класс, неожиданно подошел молодой офицер и еще какой-то молодой человек в штатском. Поздоровавшись с Евгенией Владимировной, офицер, весело улыбаясь, попросил: «Покажите хорошеньких…»
Евгения Владимировна сделала легкое движение рукой в нашу сторону и глазами показала меня и Варю Яржембскую. Я была крайне удивлена. Варя действительно красива. У нее строгое и правильное лицо, небольшой с горбинкой нос, небольшие, но красивые глаза. Но лицо бесцветное, холодное, а маленькая головка приставлена к непомерно длинному телу. В ее лице нет жизни, игры, красок, приятной улыбки. Разве это «хорошенькая»!
Еще менее я мыслила себя хорошенькой. Я ведь каждый день смотрела на себя в зеркало, причесываясь и завязывая бантик пелеринки. У меня очень хороший цвет лица. Нянька маленького брата, хохлушка-смуглянка, глядя на меня, все причитала: «Какая беленькая! Ах, какая беленькая! Вот бы мне быть такой…» Я очень мало значения придавала ее восклицаниям, хотя я знала, что у меня белая кожа, а щеки покрывает нежный румянец. Но хорошенькая ли я? Вовсе нет.
И на лице молодого офицера, когда его взгляд скользнул по нашим лицам, не отразилось ничего…
Вечером я рассказала Оле, которая почему-то утром не была со мной, о встрече по дороге в церковь. «Не удивляйся! — ответила Оля категорично. — Евгения Владимировна действительно считает тебя красивой. На днях мы группой девочек сидели с ней и перечисляли наших хорошеньких. “Все это чепуха, — сказала Евгения Владимировна. — Вот Морозова действительно красива. У нее правильные черты лица”».
Мнение Евгении Владимировны меня не убедило. Я не считала себя ни красивой, ни хорошенькой.
Невероятное происшествие
С левой стороны здания института, если подойти к нему с улицы, была сложенная из кирпича, невысокая, но плотная стена-забор. Я никогда не обращала на нее внимание, так как она была отделена от входа деревьями и покрыта вьющейся виноградной лозой.
И вот однажды утром в класс вошла женщина в сером платье и белом переднике и что-то тихо сказала Евгении Владимировне. Евгения Владимировна позвала: «Морозова! Феттер!» Когда мы подошли к ее столу, она велела нам следовать за женщиной в сером платье.
Была ранняя осень. Мы пошли за ней, не одевая пальто, и дворами подошли к внутренней стороне той самой кирпичной стены, которую могли видеть с улицы. За ней оказался двор. Какой огромный двор! А в нем какие огромные сараи! Около сараев стояли большие козлы, одни и другие. Около одних две незнакомые девочки в зеленых платьях пилили огромное бревно. Нам велено было делать то же: не хватало дров готовить обед. Мы с Олей с трудом вытащили из сарая длинное бревно, взвалили его на вторые козлы и стали пилить.
И вот четыре девочки в зеленых платьях, белых передниках и белых пелеринках часа два старательно пилят толстые бревна.
Так вот где наши дрова, которыми отапливают наше здание, на которых готовят обед и пекут наши булочки!
Мы устали, но отнеслись к этому случаю как к неожиданному, чрезвычайно забавному приключению. Больше пилить дрова нас не посылали. Может быть, звали других?
Почему дрожали кровати?
Когда я перешла в III класс (это была осень