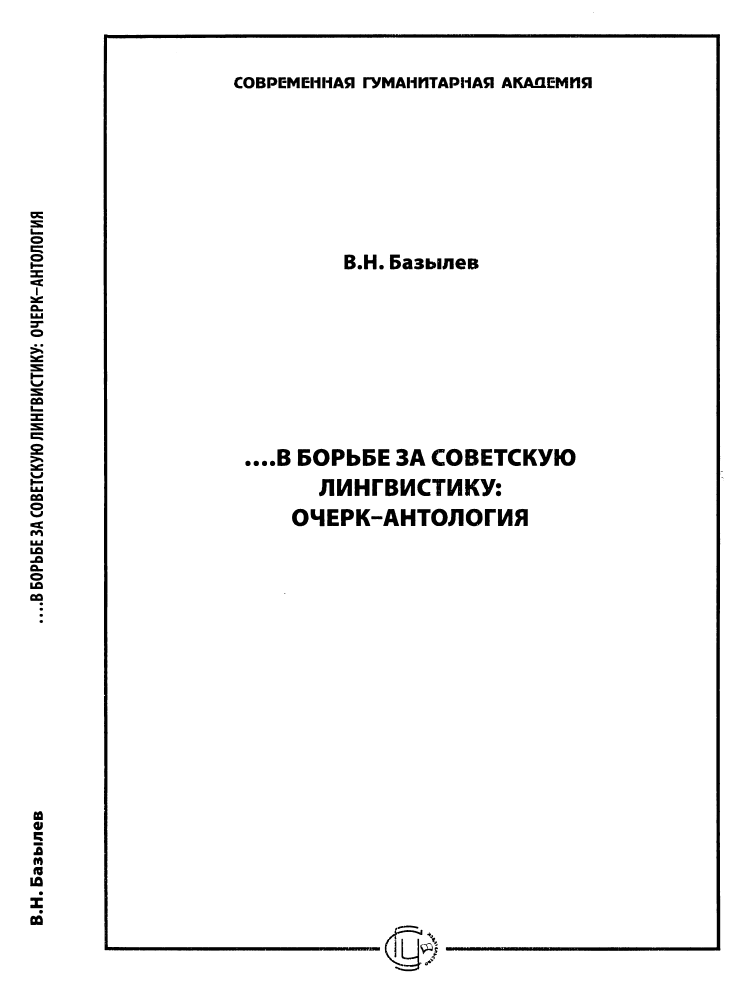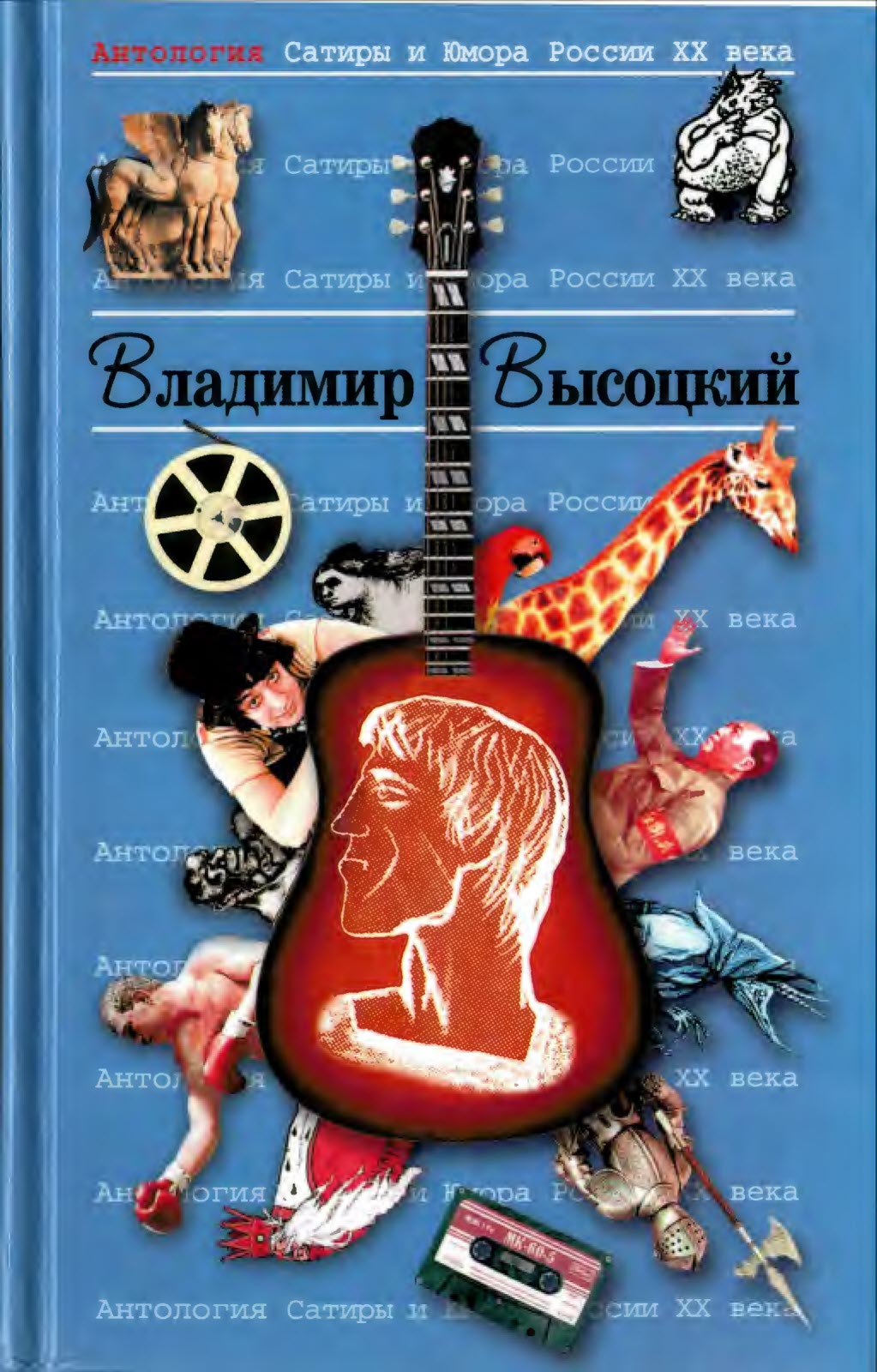товарищ майор, если не шутите.
– Боже мой, Седых! Митя! Да входи же! – Какой-то офицер остановился в проходе у двери. Федор втащил безногого в купэ и захлопнул дверь. Волнуясь и теряясь, помог ему сесть. Стал угощать папиросами.
– Как же, Митя? А? Сколько лет, и вот привелось… Седых ловко закурил от спички, пустил кверху дым и посмотрел опять уже с усмешкой на Федора.
Федор знал эту усмешку нагловатых светлых глаз. Вот так же они смотрели на Федора, когда он под бешеным огнем немцев на берегу Березины приказал сержанту Митьке Седых, самому отчаянному головорезу в дивизии, переплыть на другой берег и подавить немецкий пулемет, не позволявший приступить к наведению переправы. Приказ посылал сержанта на смерть. С этой усмешечкой в глазах Седых скрипнул зубами и, повернувшись без обычного «есть», с гранатами за поясом скрылся в камышах. Через двадцать минут пулемет замолчал. И когда с мостом было кончено и на немецкий берег прошли танки, Федор написал рапорт о подвиге Седых. Сержанта нашли санитары раненым в ноги и увезли в тыл. Больше о нем Федор никогда не слышал.
– Вот она «Слава» где! – Седых ткнул грязным пальцем в белую звезду, потом на обрубки ног. От него разило самогоном. Он пошарил глазами по груди Федора:
– А я думал, вам «Героя» тогда дали.
– Какое там «Героя», Митя… Ты, наверное, мне никогда не простишь этого.
Седых сильно затянулся дымом и, наклонившись вперед, отчего, казалось, вот-вот упадет, с лицом, налившимся кровью, прохрепел:
– Что там вспоминать, товарищ майор! «Сегодня ты, а завтра я!» – еще хорошо, что только ноги, а сколько корешков приземлилось на том свете! Сначала психовал, а потом ничего – попал в цвет! Стал ездить и торговать по маленькой – деньжата завелись. В госпитале боялся – бабы любить не будут, а вышло наоборот, ноги тут не причем. Плохо – война кончилась: ребятки к женам с фронта прикатили, но на наш век и вдовушек хватит. Хуже другое – «товарищи» спуску стали не давать. Раньше едешь с чувалом барахла, чтоб загнать, где подороже, – никакая зараза не прискипается! Чуть мильтон сунется в инвалидный вагон, мы его – костылями! До полусмерти долбали. А на базаре – за версту обходили лягавые нас! Теперь – крышка: засыпался с барахлишком, ну и хана – три-пять лет! Хоть бы ты «Ленина» имел. Ордена теперь не защита.
Федор достал из чемодана бутылку коньяку и закуску. Седых засмеялся мальчишеским ртом, полным белых зубов.
– Точно, товарищ майор: «боевые друзья встречаются вновь»! Ему заметно нравилось говорить с Федором независимо, как с равным. Федору же хотелось сделать для Седых что-нибудь такое, чтобы тот понял, что ему стыдно за его ноги и за свое неискалеченное тело.
Русский человек неловкость часто прячет в вине. Скоро последовала вторая бутылка, а потом, на станции, Федор купил бутылку самогона.
– Куда же ты едешь, Митя?
– Домой.
– А дом где?
– Да везде! Куда ни приеду, там и дом. Везде жены-вдовушки, везде бедному калеке ласка обеспечена. Спасибо товарищу Сталину за вдовушек! Если бы, товарищ майор, не лягавые – жить было бы можно; а так стали после войны прижимать инвалидов. Если раньше били милицию мы – теперь милиция нас бьет. Да как бьет! За старое отыгрываются. Бьют, бьют, а потом – под монастырь, в лагерь. Хоть я «Сибири не боюся, Сибирь ведь тоже русская земля», но обидно, товарищ майор, – они, заразы, всю войну отсиживались по бабам, а теперь опять наверху! Дали бы мне «максим» – всех мильтонов перестрелял бы!
– Как же тогда без них? – усмехнулся Федор.
– В натуре, советской власти без мильтонов нельзя, на мильтонах и держится. Но наше время вернется, опять будем бить лягавых, и уже не одних мильтонов… Во второй не обдурят! Теперь – ученые.
– А разве инвалидам не дают пособий, не устраивают на легкую работу?
– Как же, дают, дают, товарищ майор. Дадут, догонят и еще раз дадут. Вот недавно в Одессе собралась бражка на костылях, да так накостыляла лягавым, что внутренние войска вызвали.
– Как же это?
– Да так, великая революция инвалидов в городе Одессе! – рассмеялся совсем не пьяный Седых, – схватили корешков, ну, и тю-тю, в лагеря. Рано еще. Сейчас надо по маленькой. Вот собираю милостыню – офицеры дают, вдовушки жалеют, – каждый день пьян и нос в табаке. Может, и пристану к какой зазнобе-молочнице – «Хорошо тому живется, кто с молочницей живет…»
Поезд подошел к какой-то большой станции и, стуча буферами, остановился. Седых глянул в окно, опрокинул в рот остаток самогона и заторопился:
– Моя. Спасибо, товарищ майор, за угощенье, за приятную встречу.
Федор подумал, дать ли Седых денег, но побоялся обидеть. Когда тот опустился на пол, решился и спросил:
– Может, тебе, Митя, нужны… деньги? Пожалуйста… Не обижайся…
Опять засмеялись глаза Седых:
– Нет, товарищ майор, со своих не берем. Желаю счастливого пути, – и падая на деревяшки в руках, сильно понес туловище. Федор пошел за ним.
В коридоре у выхода толпились офицеры.
– Дорогу инвалиду, товарищи офицеры, – весело кричал Седых и ловко двигался между сапогами.
Федор дошел с обрубком сержанта к выходу с перрона. Остановились.
– Прощай, Митя. Прости меня…
– Бог простит, как говорили бабушки, товарищ майор, вы-то при чем! – и засмеявшись глазами, добавил: – А я все же пару червонцев у вас возьму и выпью за вас со своей Нюрочкой.
Федор, торопясь, достал из кармана гимнастерки смятую красную бумажку и сунул в протянутую руку.
* * *
На берегу Рейна, против железнодорожного моста с перебитым костяком, на нагретых солнцем бетонных площадках у мертвых пакгаузов было людно: вязали немки, играли дети, дремали с газетами в руках мужчины.
Справка УННРА в кармане была контромаркой, и Федор, расстелив пальто, положив портфель под голову, скоро уснул. Справка была фальшивая, но спроси полицейский – она давала основание возражать, возмущаться, требовать…
Разбудил Федора гутаперчевый мячик. Солнце стояло низко, тень от развалин, похожая на верблюда, загибалась к реке. Мячик принадлежал веснущатому мальчику, которого звала собравшаяся уходить мать. И хотя Федора не звал никто, он стал собираться тоже.
Вокзал, особенно покупка билета, вернули оглядку – а вдруг спросят пропуск? Командировочное? То же повторилось и при входе на перрон.
В вагонах все места были заняты, как будто поезд шел не из самого Кёльна, а проездом. Федор стал в проходе, оставляя справа и слева одинаковые расстояния к выходам. К отходу поезд набился совсем по-советски. Отъехали в темноте – электричества не было.
Духота. Заплаканные стекла. Приливы и отливы