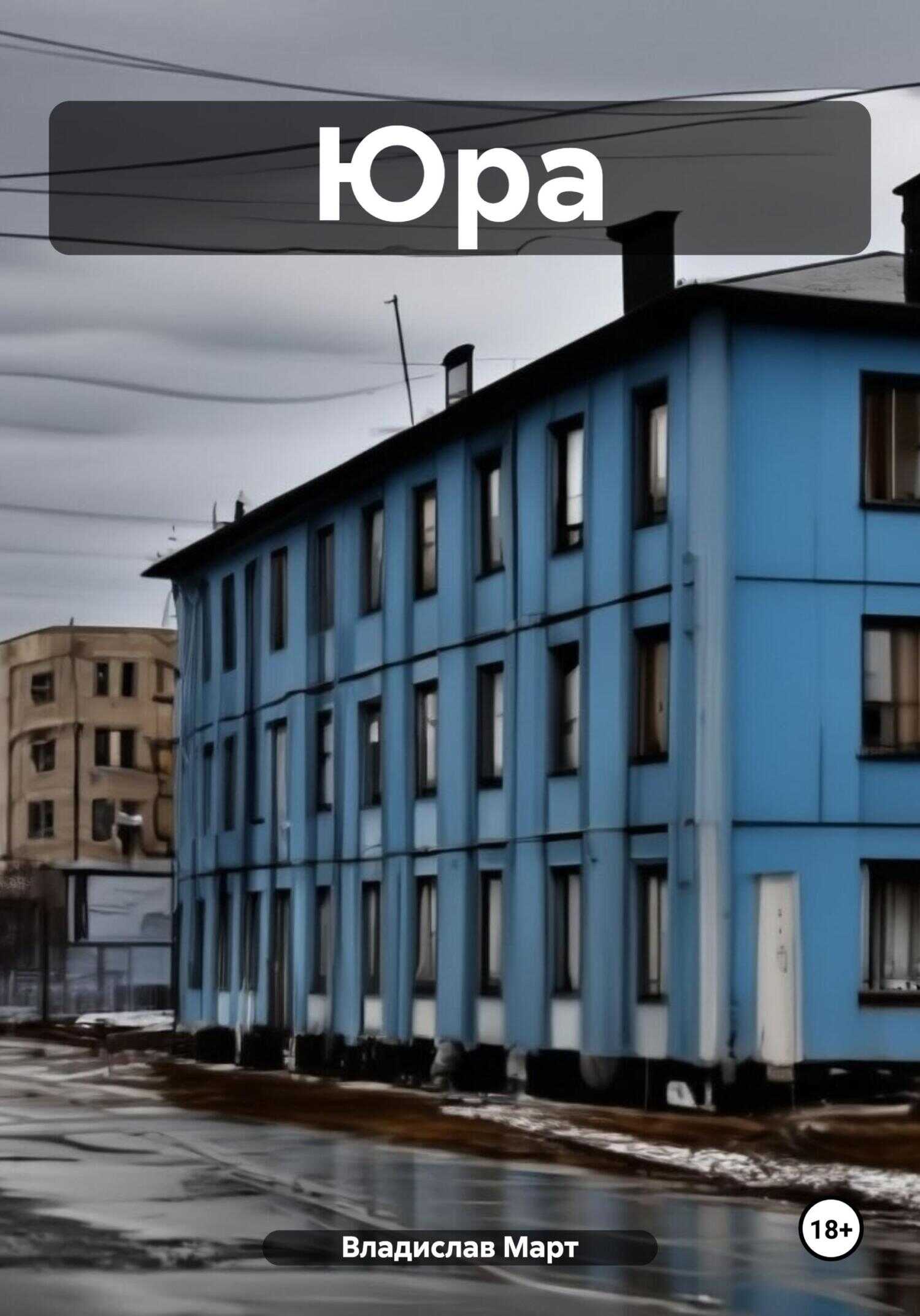Вот теперь согреешься и доспишь свою ночь. Ну, что?.. Эх, жизнь твоя, собачья… А у меня свое горе, ты думаешь как?.. Ну иди, хватит.
Прошелся по двору, поскрипывая жестким снегом, открыл сарай, включил свет. «Победа» стоит унылая. На темно-синей краске толстый слой пыли. Залез в кабину, по привычке взялся за рычаги, а они холодно-колючие…
Снова бродил по двору, как будто потерял что-то. Большая, кровянисто-красная луна, собравшись уже спрятаться за горизонт, удивленно посматривала на Шерабурко.
Дружок скулит, тычет в коленки мордой, как теленок.
— Иди ты… Хватит!
Вышел за ворота, осмотрелся: на улице тихо, пусто. Воздух морозный, чистый. «Со степи тянет, ни дыма, ни копоти. Пройдусь, подышу…»
Незаметно дошел до остановки. В трамвае народу пока еще мало. Вместе с другими машинально шагнул в вагон. Присел к окну, стекло от мороза в белом бархате. Стал прислушиваться к гудению колес, к их перестуку. На каждой остановке в передние и задние двери толпами вваливался народ. Обрывки разговоров. «Насадки плывут. Думаем, прикидываем…» (Это — мартеновцы сошлись, — отметил про себя Кирилл Афанасьевич); «Мы вчера перевалку за полчаса провернули. Красота!.. (Прокатчики. «Провернули…»); «Один скип хорошо ходит, а второй…» (О, наши, кто это?..) Но тут вагон остановился, и металлурги громко загалдели, начали давить друг друга в спину, стремясь поскорее, выбраться из трамвая. Вышел и Шерабурко.
Когда подходил к своей печи, к нему снова вернулись мысли об обязательствах, о Задорове. И злился на него, и немного завидовал: смело новаторствует, много нового в домны вложил.
«А моего там ничего нет — ни одной детали, ни одного узла. Были кирпичи, положенные моими руками, но их давно уже сменили… Ничего я не изобрел, ничего не придумал. Опыт? Устареет и все. А где новое, мое?.. Что я дал цеху, коллективу, металлургам?»
По железной лесенке поднялся на площадку кауперов, вон и литейный двор. Горновые снуют — скоро выпуск. И вдруг спохватился: «А я куда? Моя же смена с четырех. Повернулся к двери, озираясь, не увидел бы кто. Что за чертовщина?.. Это от бессонницы… Ну, дожил!..»
6
Степан обошел печь, поговорил с первым горновым, позвонил в лабораторию, потом достал из грудного кармана папиросу, вложил в нее комочек ваты, утрамбовал карандашом и чиркнул спичку.
«Значит, если трудно будет — иди обратно, удирай…» Силен, чертяка!.. Нет, я еще докажу этим Шерабуркам… Не будет помогать? Черт с ним, лишь бы не мешал, помогут другие. А три тысячи тонн сверх плана дадим. Если это удастся, тогда… Но это потом уж, потом…»
На лбу Степана, как всегда, торчал маленький русый чуб. От этого лицо казалось мальчишеским. Но сам он — большой, широкоплечий, медлительный, временами казался даже неповоротливым.
Когда Степан Задоров пришел на эту домну, в бригаде говорили: «Уж не чересчур ли тихоход?..» А потом убедились: нет!
И в самом деле — домна не экскаватор, не токарный станок. На этом гиганте нужны люди спокойные, много думающие. Степан был таким. Недаром его любимым изречением было: «Это дело обмозговать надо».
Снова вышел на рабочую площадку. Склонился к фурме и через синее стекло заглянул в нее. В утробе печи — бело, но не очень.
«Надо больше давать воздуха, поднять температуру дутья. И кокса добавить. Но примет ли печь, не собьется ли с заданного ритма?..»
Вопросы возникали один за другим, громоздились опасения. Но в это же время упорно — вот уже который день! — жила, настойчиво напоминала о себе одна и та же мысль: усилить дутье, добавить кокса. Форсировать! Больше воздуха, больше! Ух, тогда в утробе домны забушует огненный ураган, и тогда столб из шихтовых материалов еще быстрее станет двигаться вниз, превращаясь в поток чугуна. В этом весь смысл борьбы…
«Но как ответит на это печь? Надо обмозговать…»
Он сказал газовщику, чтобы тот «посматривал, как следует», и зашагал к начальнику цеха, но тут же повернулся, уставился на круглые стеновые часы с большими прыгающими стрелками, начал указательным пальцем рубить воздух, будто наказывая часам. Отсчитал время, убедился, что до выпуска еще сорок минут, пошел.
Бугров не удивился приходу Степана среди смены: если бы какая авария — по телефону бы позвонил, а тут идет. Стало быть, все в порядке. И потому Бугров не спешил. Кивнув Задорову на стул, продолжал рассматривать лежавшую перед ним сводку. Его карандаш прыгал от одной цифры к другой.
Но вот он бросил карандаш в пластмассовый стакан и посмотрел на Степана.
— Ну, как печь?
— Ничего, выправляется.
— Слово-то сдержите? Три тысячи!
— Трудновато, но… выполним. — Мастер вертел в руках серые суконные рукавицы, словно любовался, как на них вспыхивали и угасали крупицы графита, а у самого дыхание перехватило: все ждал, что вот сейчас начальник цеха вспомнит тот разговор… Но тот молчал.
— Михаил Григорьевич, — подчеркнуто смело начал Степан, — пришел по поводу той идеи, помните, говорил вам? Хочется попробовать, не возражаете? Правда, тут…
Начальник цеха посмотрел на него, улыбнулся:
— Задумал да и побаиваюсь — так, что ли? Волков бояться — в лес не ходить.
— Это правда, Михаил Григорьевич, но все же… Думаю, а как она себя поведет? Не расстроилась бы.
Бугров опять улыбнулся.
— Н-да, всякое может быть. Но надо пробовать. Я о температуре тоже думал, поднимать надо, но… Дело, дорогой, не только в этом. Если дутья в печь давать побольше и погорячее, то ей и кокса потребуется меньше. Тогда…
— Рудная нагрузка возрастет.
— Вот именно! Сейчас на тонне кокса мы проплавляем две с половиной тонны руды, маловато. Добавить бы. Можно температуру дутья повысить. Но вот сопла, устоят ли? Попробуй.
— А если не устоят?
— Ну… тогда опять думать будем, А сейчас пробуй, разрешаю.
— Хорошо, сегодня же начнем.
— Как он?
— Шерабурко? Ругается. Недоволен. Перехватили, говорит, в обязательствах. Ребята хотят в газету его.
— Ну! Вы хоть не очень уж… Щадите старика.
— Нет, мы — вежливо.
— Так пробуйте, пробуйте. Главное — печь ровно ведите. Температуру повышайте постепенно, не срывайте домну с ритма, не дергайте ее.
7
Через три дня на прокопченной стене появился свежий «Крокодил». Шерабурко издалека увидел его, и тяжелое предчувствие камнем ударило в сердце.
Да, это был он, сам Шерабурко. Лицо не очень похоже, а вот волосы художник схватил удачно: мелкие, седые кудряшки — жесткие, упругие. Возьми одно колечко, потяни — распрямится, отпусти — мгновенно совьется в кольцо: «Нас не шевели, мы по-своему в клубочек…»
Изображенный в «Крокодиле» держал в руках большой лист бумаги с заглавием «Новые обязательства коллектива домны». Ниже рисунка — подпись: «Шерабурко размышляет…» И больше — ни слова.
Кирилл Афанасьевич осмотрелся кругом, вытирая со лба пот, обрадовался, что его сейчас