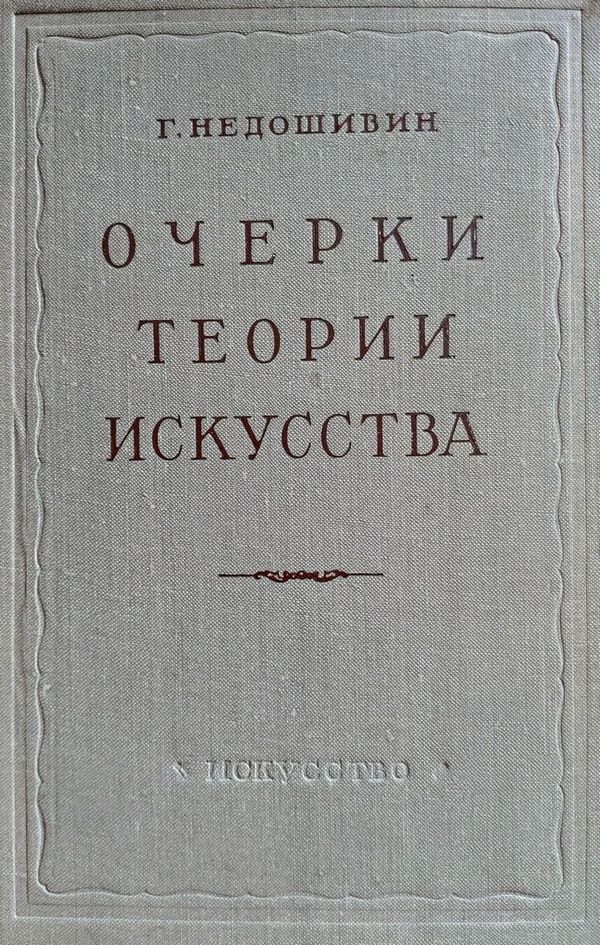в хронологическом, так и в пространственном измерениях был распространен обычай потлача, который французский этнограф и социолог Марсель Моос определил как институт тотальных поставок антагонистического типа[23].
Если расшифровать это весьма абстрактное определение, дело предстанет следующим образом. В обществах аборигенов Африки, Америки и Океании существовал обычай, поражавший европейских наблюдателей. Уже при самых первых наблюдениях выяснилось, что племена имеют вертикальную структуру управления: есть вождь, а есть, условно, «простые люди». Такая структура показалась европейцам понятной и привычной. Вожди были сопоставлены с владетельными европейскими князьями, а простые соплеменники – с подданными. Но когда европейские путешественники познакомились с аборигенами поближе, выяснилось, что вожди – это все-таки не совсем «князья», а простые соплеменники – не совсем «подданные».
Потлач сохранялся у индейцев вплоть до начала XX в., когда власти США запретили его специальным законом якобы ввиду его исключительной разорительности. Весьма забавная мотивация. Американцы отобрали у коренных народов всю их страну, а тут вдруг озаботились их материальным состоянием. С чего бы это? Что происходило во время этого ритуала?
Происходило следующее – индейцы собирались вместе и дарили друг другу богатые подарки. Чем выше стоял человек в племени, тем больше накопленного за год имущества он должен был раздать. Жадный вождь, накопивший слишком много добра, по мысли индейцев терял боевую силу, а значит и право называться вождем. Если подарки были достаточно щедрые, вождь сохранял свой титул, и в течение года ему воздавалось сторицей, но и вновь нажитое имущество он должен был раздать во время следующего потлача. Таким образом, племя никогда не теряло связи с вождем, а вождь не отрывался от своего племени. Имущественные потери во время потлача были не так уж велики, ведь, раздав часть вещей, каждый человек и сам получал чей-то подарок. Дело было в ощущении единства и в контроле над племенной верхушкой, делавшей индейцев силой, помогавшей им сохранять себя как народ. Они видели своих вождей, они молились своим богам, принося им жертвы. Это было опасно. Но это было и интересно. Европейские наблюдатели поняли, что перед ними своеобразный общественный институт, требующий детального изучения и объяснения.
Вот как об этом писал упомянутый Моос: «Сам потлач, столь распространенный и в то же время столь характерный для этих племен, есть не что иное, как система взаимообмена дарами. Потлач отличают лишь вызываемое им буйство, излишества, антагонизмы, с одной стороны, а с другой – некоторая скудость юридических понятий, более простая и грубая структура, чем в Меланезии, особенно у двух наций Севера: тлинкитов и хайда. Коллективный характер договора проступает у них более явственно, чем в Меланезии и Полинезии. Эти общества, несмотря на их внешний облик, в сущности, ближе к тому, что мы называем тотальными простыми поставками. Юридические и экономические понятия в них также отличаются меньшей четкостью, ясностью и точностью. Тем не менее на практике принципы определенны и достаточно ясны»[24].
Несмотря на экзотические формы, европейские ученые пытались осмыслить потлач в знакомых повседневных категориях. Тот же Моос отмечал наличие в потлаче массы нерациональных элементов: «…сжигают целые ящики рыбьего жира (candle-fisch) или китового жира, сжигают дома и огромное множество одеял, разбивают самые дорогие медные изделия, выбрасывают их в водоемы, чтобы подавить, унизить соперника». Но тем не менее писал: «Если угодно, можно назвать эти перемещения обменом или даже коммерцией, продажей, но это коммерция благородная, проникнутая этикетом и великодушием»[25].
Таким образом, в начале XX в. потлач рассматривался как обремененный нерациональными «фольклорными элементами» акт купли-продажи. В этом своем качестве он противопоставлялся европейской правовой системе, в которой купля-продажа выступает в очищенном, сугубо рациональном и более развитом виде.
Между тем, исследования второй половины XX в. показали, что современное европейское и американское общество устроено совсем не так рационально, как это кажется на первый взгляд. Помимо материальных ценностей продающие и покупающие обмениваются ценностями нематериального порядка. Причем объем культурного капитала, который получает продающий или покупающий, подчас оказывается более значительным, чем утилитарная стоимость материальных ценностей. Много ли рационального в поведении покупателей во время грандиозных распродаж типа «черной пятницы»? Безусловно, среди толп, атакующих магазины, попадаются отдельные расчетливые личности, которое хладнокровно ждали снижения цен и купят только то, что запланировано. Но бо́льшая часть накупит всякого барахла, о котором и думать не думала. Но «магия сниженных цен» лишает людей возможности думать рационально. Срабатывают совершенно иные механизмы социально-психологического плана. Это проявляется и в феномене моды.
Модная вещь в утилитарном смысле обычно ничем не отличается от немодной. Модный галстук так же висит на шее, как немодный. А модные туфли могут оказаться даже менее удобны, чем старорежимные валенки. Почему же модная вещь стоит дороже? Причина этого была вскрыта советским историком и социологом Б. Ф. Поршневым. В своей эпохальной работе «Социальная психология и история» он писал: «Человека увлекает не красота или полезность нового, а отличие от людей “немодных”; сама частая смена модных вещей отличает человека от тех, кто этого не делает»[26].
Процесс смены модных тенденций происходит волнообразно. Начало этой волны находится за пределами жизненного круга обычных людей. Сверхмодные модельеры Парижа и Нью-Йорка шьют умопомрачительные коллекции очень дорогих вещей. Часто формы платьев и обуви от мастеров высокой моды шокируют людей из глубинки. Сидя перед телевизором, условная «тетя Глаша из третьей квартиры» восклицает: «Да что ж это за платье такое с разрезом от шеи до попы! Как же в таком платье можно ездить в трамвае?! А шляпа?! Как в такой шляпе пропалывать огуречные грядки, ведь вуаль будет цепляться за рассаду!»
Доброй «тете Глаше» невдомек, что те особы, которые купят для себя эти платья, ничего не знают об огуречной рассаде, а трамваи видят разве что через тонированное окно своего лимузина. Это самые богатые и влиятельные люди современного мира. Вершина «золотого миллиарда». Дочери и жены владельцев финансовых империй, наподобие Консуэло Вандербильт, знаменитой Вандербильдихи из романа Ильфа и Петрова или, если взять пример более близкий к нам по времени, Перис Хилтон, наследницы крупнейшей в мире сети отелей “Hilton Hotels”.
Обозначим этих людей как представителей «мировой элиты». Они купят лучшие вещи в коллекциях мастеров высокой моды, а их непосредственное окружение раскупит остальное. Таким образом, владельцами вещей из престижной новой коллекции станет круг ведущих представителей мировой элиты. Одежда из этой коллекции haute couture станет социальным маркером принадлежности к элите.
Но в том же Париже и Нью-Йорке живет немало девушек из весьма обеспеченных семей, не дотягивающих по своим параметрам до уровня мировой элиты. Возможно, не дотягивающих совсем немного,