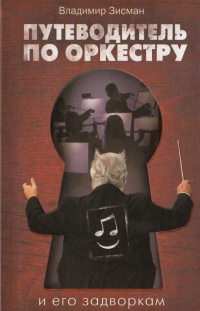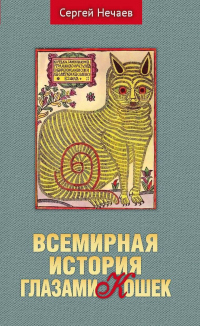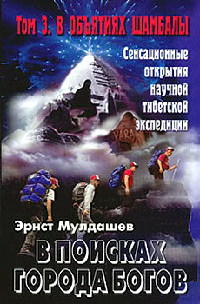с этим временем суток, горячие лучи солнца, резво и машисто, как жеребята, выпущенные в табун, разбежались по долине, он, захлестнутый безмерностью распахнувшегося перед ним мира, его жадной устремленностью к небесам, торжествующе рассмеялся. Он видел эту устремленность в ветвистых деревьях, зацепившихся за поросшие зеленой кугой крутобокие берега спокойно и властно катящей свои воды реки, рассекающей Баргузинскую долину надвое, в струисто и ясно обозначенной в едва колеблемых утренним свежаком темно-рыжих волнах, которые, отдаляясь, воздымались все выше и выше, пока не становились частью золотистого неба. Он видел эту устремленность и в еще не скошенной близ черных заболотьев кужисто рыжей траве и любовался ею. Ликование в нем все более усиливалось, пока он совершенно не запамятовал про то, кем был недавно. И, подстегиваемый радостью, столь огромной, что ее с трудом вмещало в себя ближнее пространство, он сорвался с места и побежал, что-то насвистывая, какую-то удивительную, вроде бы с небес скатившуюся к нему, подобно зернистому, утяжеленному предгрозовой влагой, темно-серому облачку, сладкую напевную мелодию, и скоро очутился в самом устье долины, обильно поросшей разнотравьем. Смаху, захлебисто дыша, он упал на землю и долго лежал, оборотившись лицом к огромному утреннему сиянию, которое втекало в земную суть его подобно теплому парному молоку, Он лежал, раскидав руки, и все смотрел и смотрел в солнечную неблизь, и она, чем больше он выказывал неземной радости, делалась роднее, и вот уже он начал думать, что где-то там его отчее подворье, там мать и отец, и братья. Но в какой-то момент ему стало скучно с ними, и он убежал, а потом по длинной веревочной лестнице, сплетенной добрыми дэвами, спустился в долину, она тоже не была для него чужой, он что-то, хотя и смутно, помнил о ней. А иначе почему бы так сильно билось сердце и почему бы из него исхлестывалась радость? О, она была несвычна даже с ним, маленьким темноволосым мальчиком, возлюбившим небесные степи и не однажды водившим по их колеблемому лону вместе с седоголовым отцом табуны небесных кобылиц. «Ладно, — сказал мальчик. — Я немного погуляю по долине, а потом вернусь, Надеюсь, отец с матерью не рассердятся на меня?..» И вот он пошел по степи, он изредка наклонялся, ощупывал руками в предчувствии осени затвердевающую траву, хотел бы сорвать иную из них, но что-то в нем противилось этому. Однажды у него в ладони оказалась среброкрылая бабочка, он долго рассматривал ее, видел встопорщившиеся усики и неподвижный, отсвечивающий зеленью, скорее, от травяного покрова, круглый глаз. Мальчик попытался заглянуть в него и понять, отчего бабочка, как бы пригревшись, не взлетает с ладони, а цепляется за ее упругие шероховатости короткими сильными лапками? Было приятно ощущать в ладони живое тепло, и, хотя рука занемела и сильно зудились кончики пальцев, он долго еще шел по степи, вытянув ее, но вот бабочка сорвалась с ладони и, покружив над его головой, улетела… А в мальчике проснулось что-то от сущего, от его всеобъемлющего Закона, которому надо следовать, коль скоро не хочешь стать непотребным в миру, оторванным от него. И он сказал как бы не ему принадлежащие слова, но кому-то мудрому: «В природе нет разделения между высшими и низшими существами, все равны и одинаково удалены от Истины, а она есть свет, излучаемый глазами Будды. Так отчего же тогда в жизни наблюдается стремление одних существ властвовать над другими? Отчего иные из них не хотят понять, что тем самым нарушается гармония в движении природы к совершенству?.. Отчего в человеке, в душе его жестоко сталкиваются добро и зло, почему он как бы утеривает что-то в себе и делается опустошен и никому не надобен?..»
Но слова, произнесенные мальчиком, наверное, потому, что не принадлежали ему, недолго держали его в напряжении и, не осознанные им, однако и взрастивши легкое недоумение и слабую досаду, утекли в пространство и там затерялись. Мальчик облегченно вздохнул и побежал по степи, влекомый дивной неземной мелодией. Трава цеплялась за босые ноги в намерении утяжелить бег, и это намерение угадывалось в веселом перешептывании листьев, и он понимал про нее, что трава заскучала и, если бы могла, то и припустила бы за ним и была бы так же озорна и ни к чему не склоняема, только к радости.
Мальчик подбежал к реке и остановился, пораженный спокойствием, исходящим от нее. Она накатывала на илистый берег ровно и бесшумно, а мальчику хотелось, чтобы она взыграла, и это было бы созвучно душе его, ныне требующей непрестанного движения хотя бы и в речном течении.
Берега в золотой оправе От луны ли, от звездного ль света. Ветер вехи на волнах ставил И терялся в затонах где-то.
Мальчик оглянулся, ища произнесшего песенные слова, но никого не увидел и смутился, но тут же подумал, что они рождены мелодией, а она жила не только в нем, а и в ближнем мире и как бы даже обозначалась в реальных формах. Во всяком случае, он уподоблял ее большой белой птице, сорвавшейся с высоких байкальских скал, где ей стало тоскливо. Еще бы! Кому понравится денно и нощно пребывать в пропахшей гниющим лишайником тесноте! Вот она и последовала за ним.
— Да, да, — сказал мальчик. — Так. Конечно же, так. Слова от той же мелодии, а про нее я точно знаю, откуда она и почему разлита в воздухе.
Но только он сказал, как что-то случилось, да не в ближнем пространстве, склонном к неожиданным, часто неприятным переменам, а в нем самом, и радость, что жила на сердце и казалась не имеющей границ, начала суживаться, утеняться, пока не исчезла, уступив место другим чувствам, которые уже были не подвластны мальчику, не ощущаемы им, наверное, еще и потому, что и сам он, подхваченный павшим на безмятежную гладь воды резким и оглушающе сильным ветром, вдруг оказался брошен на серые обережные камни и тут же утратил прежнюю свою сущность.
Агван-Доржи с недоумением оборотил взор на камни, точно бы ища что-то, но так ничего и не найдя, огорченно развел руками. А волны все шумели, шумели, и небо было темное и низкое, от дальних гольцов пригнало тяжелые тучи. Сшибаясь друг с другом, они высекали ледяно посверкивающие искры. Скоро пошел дождь, косой и холодный, и Агвану-Доржи сделалось зябко в легком шелковом халате. Но, может, это не от дождя, а оттого, что в нем утратилась недавняя детскость и чистая непосредственность в восприятии мира. «Отчего так? — с грустью подумал он. — Отчего с прожитыми летами меняется