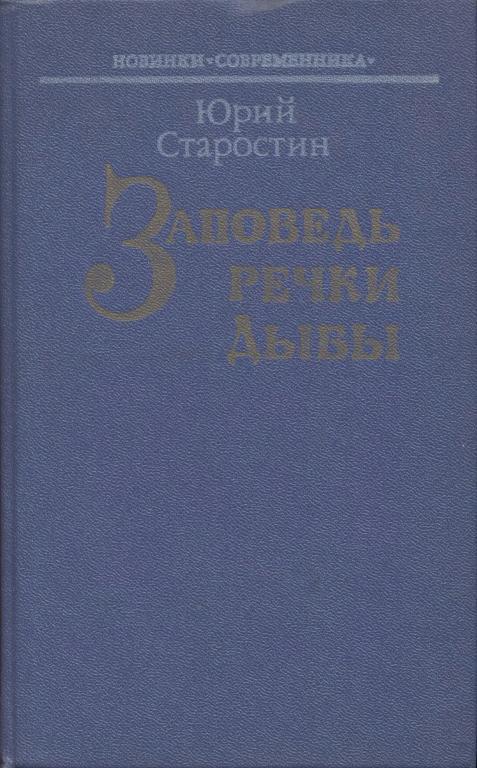всему полю бугорки убитых из недавно прибывшего пополнения — новые шинели, нелепо встопорщенные на спинах, еще незаношенные обмотки, толсто накрученные на ногах…
Утром его разбудил командир орудия сержант Демин, позвал к расчету на царский завтрак — мед, огурцы, помидоры, арбузы, — но Владимир наотрез отказался: все возникал перед глазами тот жирный студенистый сгусток на щите разбитого орудия, и разом начинало мутить, выворачивать пустой желудок, вызывая судорожным кашлем обильные, унижающие его слезы, которые он стеснялся показывать солдатам.
Он не хотел вспоминать позавчерашний бой, не хотел, чтобы Илья знал о контузии, завидуя его педантично выбритому смуглому лицу, его несомневающейся силе при утверждении себя в новом положении командира батареи, и его командный голос, каким он заявил сейчас о недоверии командиру отделения разведки, был исполнен решимости и действия.
— Думаю, что лейтенант Курочкин, пусть земля ему будет пухом, до невыносимости избаловал Лазарева, сам за него все делал, а он пускал пыль в глаза, — сказал Илья. — Для чего, спрашивается, мне такая артиллерийская разведка? Не знает точно, где немецкая передовая! Но ходит по батарее индюком.
— Ты знаешь, что Лазарев сидел до фронта в тюрьме и вообще — темный тип, с ним не хотят связываться.
— Знаю, но знать не хочу. Мне плевать, кто он был. Мне важно, кто он есть. Гнать Лазарева из разведки надо, немедленно гнать! В шею! Удивляет меня, конечно, то, что этот милый старшина считает себя пупом в батарее. Не хочет, видишь ли, подчиняться. Глупец! Я его заставлю выполнять обязанности, как образцового солдата, или сломаю ему хребет, дураку!
— По-моему, ты его уже приложил достаточно.
— Так нужно было! А впрочем — ничего прощать я ему не намерен.
— Тебе видней, Илья. Разведка и связь в твоем подчинении.
— Вот именно. В моем.
«Разве можно согласиться с тем, что решение Ильи в тот июльский день 1943 года сыграло роль в его судьбе, изменило всю его жизнь? И я ничего не мог сделать, предугадать? Но можно ли было его остановить?»
Они вернулись к орудию, и Илья объявил о перемещении командиров отделений взвода управления. Выслушав приказ, Лазарев мерцающими нацеленными глазами охватил с ног до головы плотную фигуру Шапкина, затем с ленивой яростью сплюнул через бруствер и присел к котелку с медовыми сотами, внешне несокрушимый в собственной правоте. Это перемещение ничего, по существу, не изменяло в жизни Лазарева («что разведка, что связь батареи — один черт!»), но по тому, как Лазарев, расширив ноздри, сидел на станине орудия и жевал соты, с напускным интересом глядя на вьющихся вокруг котелка ос, по тому, как упорно молчал, видно было, какого усилия стоило ему подчиниться полностью жесткой воле нового комбата, оборвавшего его прочное положение независимости от командиров огневых взводов. Калинкин, вытянув голую шею, принялся озабоченно разрезать арбуз на брезенте, остальные лежали в тени брустверов, негромко похрустывая огурцами, никто не решался посмотреть в лицо Лазарева, который постепенно перестал жевать, широкие его скулы затвердели.
— …Так вот что. Два орудия из леса передвигаем на опушку, к орудию взвода Васильева, — сказал Илья голосом приказа ни в чем не сомневающегося человека. — Перемирие с немцами кончено. Это стоит уяснить, Лазарев. И сачкование кончено. Шапкину энпэ занять и оборудовать немедленно на железнодорожной насыпи. В районе сада и домика. Даю два часа на оборудование. Лазареву даю столько же на связь с пехотой.
Ровно через два часа ему доложили, что наблюдательный пункт выбран на железнодорожной насыпи, связь проложена к окопанным на опушке трем орудиям, установлена с правофланговым стрелковым батальоном, занимавшим станцию, и Илья перебрался на другую сторону ручья, к насыпи, чтобы обосноваться на наблюдательном пункте батареи.
И снова летний покой солнценосного дня потек из чащи соснового леса, обволакивая орудия жарой, тишиной, однотонным гудом лесных ос, и наползала вязкая пелена дремоты, и после еды слипались у солдат веки. Часовой Калинкин сидел на станине крайнего орудия, изредка протяжно зевал в сладострастной истоме, хлопал по-бабьи корявой рукой по рту, а сержант Демин, крепкогрудый, русоволосый красавец, устроился под бруствером и, надвинув на лоб пилотку, жмурился на кучевые облака, сияющие краями в синеве неба. Остальные солдаты расползлись с солнцепека, с голого места у орудия — кто в открытые ровики, поближе к земляной прохладе, кто в нишу для снарядов, прикрытую брезентом.
Владимир лежал на плащ-палатке, разостланной на опушке леса, возле огромной сосны (чуть внятный холодок шел здесь от земли), и чувствовал, как отпускает головная боль, и весь он будто растворяется в этой мирной лени сытого часа, в пестроте бликов, в этом благолепии щедрого лета, которое настойчиво обещало вечную неизменную жизнь с зелеными, светообильными днями, пропитанную любовью, радостью, как когда-то было, в дачные сумерки Малаховки, затянутой сизыми самоварными дымками, озвученной патефонами из заросших сиренью переулков, поздними гудками и шумом электрички за озаренным луной лесом.
Мучительнее всего было то, что Илья получал письма от Маши, треугольнички, свернутые из разлинованных листков школьной тетради, и, подняв насмешливые брови, читал их, затем говорил несколько удивленно: «А!» — и не без небрежности засовывал письма в полевую сумку. И всякий раз Владимир не мог побороть себя, спросить, что и о чем она пишет из Ташкента, и всякий раз Илья, передавая ему Машин привет из эвакуации, прибавлял с усмешкой: «Представляешь, они еще за партами решают задачки по геометрии. Восторг, умиление, птичий щебет в садах! Ну что ей отвечать? «А мы, знаешь ли, Маша, дорогая, стреляем по танкам»? Лучше ответь ты, хочешь?»
В его отношении к ее письмам была снисходительная досада взрослого человека на детские слова школьницы, с которой вроде бы вскользь виделся много лет назад, а теперь не вполне хотел утруждаться регулярной перепиской. А Владимир охотно писал ей, вернее — отвечал за двоих, но письма по-прежнему приходили не ему, и чувство обиды и несправедливости испытывал он время от времени. Надо было, очевидно, не вспоминать ее часто, пора было относиться к тому наивному, школьному так, как относился к прошлому Илья, — с дружеским снисхождением офицера, понявшего на войне гораздо больше, чем он — за девять месяцев учебы в артиллерийском училище и за двенадцать месяцев фронта, где оба командовали огневыми взводами и разлучались лишь изредка, поддерживая огнем разные батальоны.
К командованию батареей Илья был готов давно по складу своей натуры. Бывшего комбата старшего лейтенанта Дробышева, человека немолодого, тугодумного, неповоротливого, призванного в армию из запаса «гражданского тюфяка», Илья не принимал всерьез, однако выполнял его приказания с той искусственной старательностью, какая помогала ему