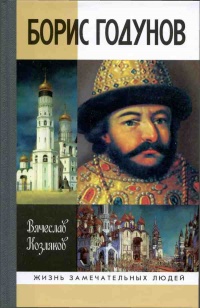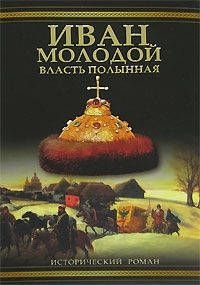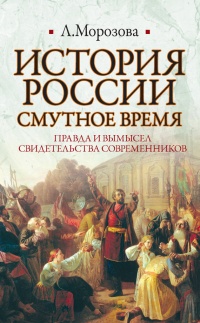подлокотниках трона, ноги упирались в подставленную скамеечку. И как ни опытен был боярин Шуйский, но ничто ему не сказало о царёвых думах. А боярин многое хотел увидеть и многое вызнать. Ан вот нет. Не пришлось.
Шуйский перевёл глаза на царицу. И здесь преуспел. Даже усмешка в глазах промелькнула, недобрый огонёк в глубине их зажёгся, но да тут же и погас. Понимал боярин: не время и не место выказывать своё.
А лицо царицы было скорбно, и об том говорили непривычно сжатые губы, морщины у рта, которые раньше не примечались. И особенно руки поразили боярина. Царица, держа на коленях знакомые Шуйскому чётки, вслед за словами думного дворянина, всё читавшего и читавшего грамоту, толчками, неровно, с какой-то непонятной поспешностью переводила янтарные зёрна. Бледные, тонкие пальцы схватывали жёлтые камушки и перебрасывали, перебрасывали по шёлковому шнуру. И опять схватывали и проталкивали вперёд. Движению этому, казалось, не было конца. Что взволновало её, всегда уверенную и властную дочь Малюты Скуратова? Кровь-то у царицы была на густом замешена. Отца царицы Марии трудно было разволновать — он сам кого хочешь растревожить мог. А вот царицыны пальцы летели, летели, перебирая жёлтый янтарь. У боярина в мыслях поговорочка выскочила: «Где пичужка ни летала, а наших рук не миновала». Боярин сказал про себя: «Так-так, однако…»
Взглянул на детей царских.
Лицо царевича Фёдора было оживлённо, и он с интересом скользил взглядом по палате. Ничто не выдавало в нём тревоги и озабоченности. Это было здоровое, молодое лицо счастливо рождённого в царской семье дитяти. Ему только что минуло шестнадцать лет, и он был выражением беззаботности, лёгкости, жизнерадостности прекрасных юных годков. Написанная на лице царевича молодая безмятежность тоже вызвала в мыслях боярина удовлетворение: «Так-так…»
На красивом лице царевны Ксении боярин Василий и взгляда не задержал. Ксения, конечно, была царская дочь, но всё одно — девка. Чего здесь вглядываться, чего искать? С этой стороны ничто боярину не грозило, да и грозить не могло.
Дворянин всё бубнил и бубнил, и Дума слушала его, задержав дыхание, но боярин Василий слов тех не улавливал. Знал, что будет сказано, да и мысли свои занимали. Доволен остался наблюдениями за царской семьёй и расслабился, обмяк, а то всё пружиной злой в нём было скручено. Боярин отпахнул полу шубы, сел на лавке вольно, развалисто, тешась тайной радостью. И в мечтаниях не заметил, как закончил чтение думный, как заговорили бояре.
И тут ударил его жёсткий голос царя.
— Боярина Василия, — сказал Борис, — к народу след выслать. Пусть скажет люду московскому с Лобного места о смерти царевича Дмитрия в Угличе.
Царь Борис упёр взгляд в боярина Василия. Шуйский полу шубы потянул на себя, поправился на лавке. И холодок опахнул его. Плечи вздёрнул боярин. Не ожидал, ох, не ожидал такого поворота и съёжился под царёвым взглядом. Показалось боярину на миг, что Борис в мысли его проник и сейчас об том Думе скажет.
Но царь заговорил о другом:
— Он, боярин Василий, розыск в Угличе вёл и царевича по православному обычаю в могилу опускал. Так пускай же он об том расскажет.
Все взоры обратились к Шуйскому. И разное в глазах было. Не просто такое — перед людом московским на Пожаре с Лобного места говорить. В случае этом, бывало, и за шубу с каменной громады стаскивали под кулаки, под топтунки. А там уж что? Ярость людская страшна. Вот это-то и увидел боярин Василий в обращённых к нему взглядах. И другое узрел: с насмешкой, с тайной, недоброй мыслью смотрели иные, что-де, мол, боярин, знаем — хитёр ты, хитёр, ан и на тебя нашли укорот. Шуйский взглядом метнулся по палате, отыскивая верхнего в Думе, Фёдора Ивановича Мстиславского. И увидел: Фёдор Иванович лицо отворотил. Понял Шуйский — как сказал Борис, так и будет. Приговорят бояре ему, Василию, перед народом предстать. А мысль дальше шла. Соображать быстро боярин умел. Выступлением этим перед людом московским Борис накрепко его к себе привяжет, противопоставив мнимому царевичу. Накрепко! Ибо весть о сём выходе на Пожар до польских рубежей тут же долетит. И боярин Василий растопырился: что сказать, как быть?
Ущучил его царь Борис.
Дума сказала — боярину Василию перед людом московским предстать.
Тогда же решено было — без промедления послать навстречу вору стрельцов. Во главе рати поставлен был любимец царя Бориса, окольничий Пётр Басманов.
В эти предзимние дни в Дмитрове объявился стрелецкий пятидесятник Арсений Дятел. Прискакал он из Москвы по плохой дороге, по грязям, и сразу же поспешил в Борисоглебский монастырь. Горя нетерпением, обсказал, что прискакал для закупки коней по царёву повелению. Игумен обрадованно засуетился — уразумел, что деньгу урвать можно, распорядился подать сулею[115] с монастырской славной настойкой и прочее, что к сулее полагается. Заулыбался приветливо, заквохтал, что та курица, собирая цыплят.
Арсений, приморившись с дороги и оголодав изрядно, от угощения не отказался. Сел к столу. Игумен сказал должные к трапезе слова, с одушевлением потёр ладонь о ладонь и разлил винцо.
Настойка загорелась пунцовым в хорошем стекле.
— Кони у нас есть, — сказал игумен, — поможем. Кони добрые. Доволен будешь.
Пятидесятник, не отвечая, вытянул стаканчик винца, медленно, как пьют с большой усталости, и принялся за мясо. Жевал тяжело, желваки над скулами пухли. Игумен разглядел: лицо у стрельца хмурое, серое. «Что так?» — подумал и хотел было продолжить разговор, но видно было, что Дятел его не слушает, и он замолчал, с досадой сложил сочные губы.
Гость доел мясо. Игумен поторопился с сулеёй, но, выпив и второй стаканчик, стрелецкий пятидесятник не стал разговорчивее, а, подперев голову кулаком — кулак у него, заметил монастырский, здоровый, тот кулак, что, ежели в лоб влетит, долго шишку обминать будешь, — уставился в узкое, забранное решёткой оконце. А там и глядеть-то было не на что. За окном бежала дорога, залитая дождём и изрытая глубокими колеями. Тут и там белели пятна тающего, неустоявшегося снега да гнулись под холодным ветром редкие берёзы, свистели голыми, безлистыми ветвями. По дороге тащилась телега с впряжённой в оглобли жалкой лошадёнкой. Ветер, поддувая, задирал ей тощую гривку. Стояло то безрадостное предзимнее время, когда только выглянешь за дверь — и зябко станет, ноги сами завернут к печи, к теплу. Проклятое время, самая что ни есть тоска. Арсений Дятел в стол руки упёр, поднялся со скамьи, сказал:
— Ну, отец игумен, пора. Показывай коней.
— Ах и ах, — всплеснул руками монастырский, — какая сейчас дорога? Погодить бы…
Но стрелец взглянул с недобрым недоумением.
Игумен ещё больше заохал. По другому