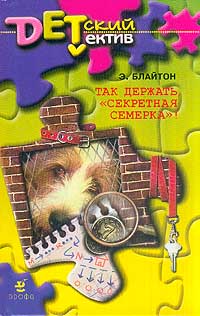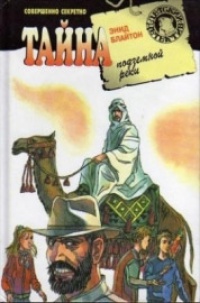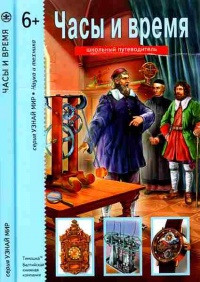Гидеон нахмурился, слез с кряхтением со стола, обошел его, встал напротив бабушки и сверля её острым бородатым подбородком, заявил:
— Отдай!!
И они перешли на немецкий.
Очень, очень удобный язык, чтобы поругаться.
Гидеон был как-то мельче в кости и несерьезнее, чтобы вот так вдруг отнять банку силой. Он протрещал длинную руладу ругательств — стало сыро, пол в комнате сделался скользким, одна из болванок чихнула.
Бабушка вернула сухость буквально одним дуновением, перейдя затем на понятный язык и пробормотав:
— Ах ты клоп! Schlafmütze!!
Гидеон, прокричав тоненько нечто злобное, изловчился и подпрыгнул, его маленькая лапка мелькнула в сантиметре от банки. Бабушка подняла банку вверх, вторую руку с сумкой прижала к груди и насупила брови. Болванки отбросили всякую сдержанность и начали радостно орать «Бей!!», не адресуясь конкретно ни к кому из дуэлянтов.
— Вы, бабушка, просто как Свобода, — мечтательно проговорил я, — не хватает только короны.
Зыркнув на меня, Гидеон сменил тактику: выхватив откуда-то ножницы, он взмахнул ими, щелкнул и рявкнул: «Руэ!!!». Болванки смолкли, на проступивших было на них лицах пропали рты.
— Успокойся, успокойся, спокуй, — сказала бабушка. — Тутай нет зла.
При этих словах её пальто на зеркале чуть заметно колыхнулось.
— Ладно, — сказал Гидеон, посопев, — миру — мир. Давайте чай пить.
Мы чинно встали вокруг стола. Я разлил чай по чашкам, воцарился аромат вишни и цедры, бабушка очистила мандарин.
— Держи, Гидеончик, — сказала она, — и не ругайся при детях.
Гидеон взял у нее мандарин, покопавшись в плетенке, выбрал сухарик, макнул его в чай, горестно вздохнул, надкусил его и сказал:
— Ладно. Бери… Отдаю, но не надолго. Вернёте банку сразу… После.
— Ты, конечне, извини Гидеон, — сказала бабушка, — но склянку верну на Сильвестра[36].
Гидеон яростно сверкнул синими глазками:
— Я что, должен, все время говорить «да»?
— Ты пойми, — продолжила бабушка, крутя чашку с чаем в руках, — то не примха, то мус[37]: он не оставит нас в живых, он же доберется до всех. Даже сёстры, я уже говорила тебе, согласились помочь, даже сёстры, а ты ведь знаешь, какая у них ситуация. Такое.
— Сёстры? — спросил Гидеон. — Ты была у сестёр?
— Ну, внутрь не заходила…
Гидеон раздумчиво сгрыз сухарик.
— Так и быть, — сказал он. — Банку можете взять… Я сам приду за ней. Попозже.
— Собираешься помародерствовать на развалинах, Гидеон? — медоточиво спросила бабушка. — Так он не оставит ничего, если что. Ничего. Ниц.
Гидеон нахмурился. С присвистом отпил чай и сказал:
— Таки не верю тебе, что все настолько плохо. Ты же всегда выкручивалась. Даже при немцах.
— То прошло, — очень просто сказала бабушка. — Я молодая была, а сейчас… Сейчас вельми удачно выбрано время: я в ситуации, что не могу сказать «нет».
— А Лесик? — спросил Гидеон, жуя мандаринку. — Отбейся Лесиком, им вполне можно пугнуть.
Мне показалось, что самое время оскорбиться и напомнить о себе.
— Я так просто не пугаю, — заявил я. — У меня дар…
Повисла тишина, слышно было, как где-то далеко прозвенел трамвай, хлопнул листом жести на крыше ветер. Гидеон издевательски хмыкнул и звучно отпил чаю, бабушка кашлянула.
Я решил расставить все по местам.
— Ты, Гидеон, только не хмыкай, — сказал я, — это хамская привычка. У тебя, между прочим, в буфете нет порядка, и шляпы над тобой смеются.
— Вот такие сейчас дети, да — им отдаешь последнее, а они? Они приходят в чужой дом и с порога говорят старику — хам. Да, — оглушительно вздыхая, сказал Гидеон, — где тебя воспитывали, Лесик, в трамвае?
— Но-но, — сказала бабушка. — Тоже мне эрцгерцог. Думаешь, замкнул комашку в слоик[38] то уже страшный магик? Додумался — прикрыться дитём. А ты, — сказала она мне, — не дуйся тут, иди одевайся.
Выходя из комнаты с пылающими от обиды щеками, я услыхал:
— Ты, — громким шёпотом старого человека сипела бабушка, — звыклый[39] идиот. К кому идет Гость, как думаешь?
— К тебе, конечно, — срываясь на писк, отозвался Гидеон.
— Так я отвечу — нет! Он ищет третьего.
Снова что-то с грохотом упало на пол, разом загалдели болванки.
В дверях показалась бабушка, за ней почти бежал, припадая на правую ногу, Гидеон.
— Идем, Лесик, — сказала бабушка, — прощайся с Гидеоном.
— Минуточку! — тяжело дыша, сказал Гидеон. — Я прощаться не люблю и не умею.
— Извини меня, Гидеон, — сказал я. — Совсем не хотел тебя обидеть. У тебя везде порядок.
— Те-те-те, — сказал Гидеон. — Сейчас не об этом, но думаешь ты правильно. Я вот что скажу — не слушай эту банку, поставь подальше и вынь тогда, когда будет по-настоящему страшно, но не слушай.
Больше мы ничего не сказали. Даже «до свидания». Дверь за нами закрылась будто бы сама собою.
Мы прошли вверх по гулкой винтовой лестнице, вышли на балкон — на перилах сидела не по-хорошему внимательная галка и, казалось, ожидала нашего появления.
— Проверь, Лесик, заперла ли я дверь, — сказала бабушка и дала мне медный ключ с надписью «Я отворяю». Я послушно потрусил назад, ко входу на лестницу. Стоило мне вставить ключ в замок и повертеть им, чтобы стало понятно, что дверь заперта, как за моей спиной, на балконе, кто-то применил Дар.
Вздрогнул воздух, среди сырости пронесся ощутимый поток тепла, раздался очень короткий и яростный крик — я обернулся.
Бабушка стояла посреди галерейки и тщательно расправляла перчатку на руке, в дереве перилец ограждения виднелось три крупных светлых царапины, на желтых плитках пола валялась пара перьев Я подошел поближе — попахивало озоном, галки нигде не было видно, внизу, на пятачке внутреннего двора, лежала большая груда каких-то щепок, из темных углов к ней не спеша подходили разномастные кошки.
— Идем, — сказала бабушка, — будь напоготове.
Обратный путь в сторону Целной площади мы проделали в молчании. Я очистил мандарин и съел половинку, вторую отдал бабушке.
— Лесик, никогда не сердись на Гидеона, — вдруг сказала бабушка. — Он стародавний, через то дратуется. «Клошмагик съеден молем» — и то ответ на прозбу! Мою! Хитрус — аматор… Его же, мыслю, все забыли. Одинокость — шлях на бздуры… До того ж он шляпник, то со всей повагой, но чуть варьят[40].