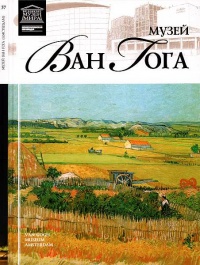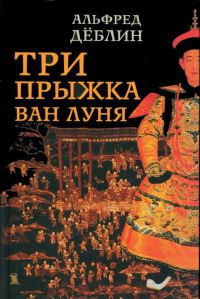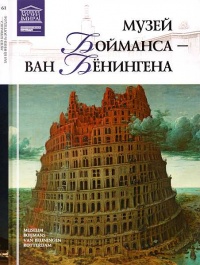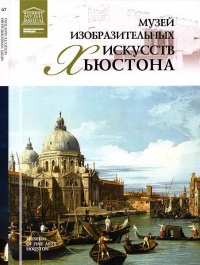Дядя везде чувствует себя лишним.
А еще для меня этот дом слишком роскошен, мама с папой и прочие домочадцы — слишком церемонные (и холодные) […] И главное, тут слишком много священников. Лохматый пес понял, что даже если его u не выбросят на улицу, то будут терпеть скрепя сердце, так что лучше ему подыскать себе другой приют.
Я жалею о том, что приехал — надо было остаться среди вересковых пустошей, там я чувствовал себя менее одиноко, чем здесь, в компании вежливых и воспитанных людей.
В итоге мне отвели гладильню, где я смогу хранить свои вещи и картины и которую можно будет приспособить под студию, если в том будет необходимость.
Если вам когда-либо доведется побывать в Нюэнене, то вы поймете, что главной проблемой для Ван Гога было плохое освещение: в гладильне лишь одно маленькое окошко, лучи солнца практически не попадают на предметы. Прачечная годилась только как склад, но не как мастерская художника. Винсент вынужден пересматривать свой творческий метод: уже не получится, как раньше, дописывать увиденные сцены в студии — а значит, пришла пора искать новые сюжеты.
Движимый необходимостью и одновременно неугасающим любопытством, Винсент начинает активно посещать местных жителей.
Очутиться внутри картины
В 1884 г. в Нюэнене проживают четыреста тридцать ткачей. Производство льна составляет лишь малую часть их дохода: основным источником средств к существованию является работа в полях, которая в период непогоды уступает место ткацкому делу.
Из Гааги к Винсенту приезжает ван Раппард: он не отвернулся от друга, несмотря на нелицеприятные отзывы Мауве. Они вместе отправляются в крестьянские дома писать простых мужиков и баб за работой — те же готовы терпеть некоторые неудобства за скромное вознаграждение. Должно быть, просьба позировать для портрета показалась несколько странной — крестьяне никак не ожидали, что могут представлять для художников какой-либо интерес. Однако за небольшую сумму они готовы простить молодым живописцам причуды.
В глазах Ван Гога писать повседневную жизнь крестьян означает войти в их жизнь, потрогать руками то, что собираешься перенести на холст, слышать шум швейной машинки, который затем предстоит передать в изображении, вдыхать аромат дерева и специфический запах ткани, наблюдать за мерным движением шпульки и за пылью, поднимающейся от сотканного полотна в маленькой комнатушке, которая служит одновременно мастерской, столовой, спальней и детской.
Я посетил дома ткачей, и меня поразило, насколько это трудоемкое и вредное производство. Ткачи работают молча, внимательно выбирают цвета и слушают, как стучат, касаясь глиняного пола, инструменты. Сегодня уже не найти старинных ткацких дубовых станков, напоминающих своим темным цветом хоры в соборе, с высеченной датой производства. Бледное солнце пробивается сквозь узкое оконце, слабо освещая комнату с низкими потолками и закопченными балками. Ткачи, серые от пыли, быстро и нервно перебирают пальцами, не останавливаясь ни на секунду. Прогулявшись по Нюэнену, по его аллеям, обрамленным густой листвой орешника, легко ощутить, почему Винсента и Антона так притягивал ритмичный стук ткацких станков.
Пока что я написал три акварели. Рисовать ткачей нелегко, потому что комнатка маленькая, в ней невозможно отойти на достаточное расстояние, чтобы изобразить ткацкий станок. Думаю, что именно поэтому их никто не может нарисовать. Однако сегодня я нашел комнату, в которой два станка, и, может, у меня наконец получится то, что я задумал. Раппард написал в Дренте этюд, довольно удачный. В целом выглядит это все довольно грустно, потому что ткачи очень бедны.
Интересно сравнивать образы, созданные дядей и его другом ван Раппардом. Они ровесники, учились у одних мастеров, работают с одинаковыми сюжетами, используют одни и те же материалы, но пишут с натуры одну сцену совершенно по-разному. Ван Раппард создает слаженную композицию, пытается разрешить проблему отсутствия пространства: он неукоснительно следует принципу, согласно которому пространство должно выглядеть реалистично: станок стоит на ровном полу, перспектива несколько обрезана. Неяркий свет распространяется мягко, равномерно освещая всю картину. Если же обратиться к ткачам Ван Гога, то складывается ощущение, словно тебя затягивает в темную комнатку, где дядя создает дискомфортный контраст между темнотой помещения и ослепляющим светом, бьющим из окон. Его ткачи как будто порабощены станком, кажется, что они застряли между его перекладин, как в клетке, и не в силах пошевелиться.
Ван Гог не испытывает к работникам жалости, не приукрашивает их, не романтизирует. Он убежден, что их нужно показать их же собственными глазами, вложив в эти образы чувства реальных людей. Дядя не хочет превращать ткачей ни в героев новой Аркадии, ни делать из них жертв прогресса и жестокого, алчного общества.
В своей рабочей одежде крестьянин выглядит гораздо элегантнее, чем когда идет на воскресную мессу, вырядившись в пальто, будто знатный господин.
Винсент чувствует, что ему удалось узреть истинную сущность работников, он доверяет своей интуиции.
Дядя посещает ткачей на протяжении всей зимы. Ему не нужно, чтобы они позировали неподвижно — они могут спокойно продолжать заниматься своим делом, так даже лучше. Винсента не заботят ровные линии, законы перспективы, наоборот — он настаивает на грубой композиции, упорствует в своих ошибках, потому что только так можно проникнуть в самое сердце образа, передать его внутреннюю тоску. Ван Гог рисует ткачей не такими, какими видит, а такими, какими он их ощущает.
Мы должны слышать вздох или стон, периодически доносящийся из-за груды перекладин.
Свет не озаряет лица людей, ничто не отделяет их от коричневой массы деревянного станка. Человек и машина сливаются в унисон.
В папках, которые хранила моя мать, я обнаружил шестнадцать рисунков и десять картин, изображающих ткачей. Думаю, что их было гораздо больше. Среди имеющихся у меня только одиннадцать рисунков отмечены автографом — знак того, что Винсент остался доволен карандашными работами больше, нежели полотнами.