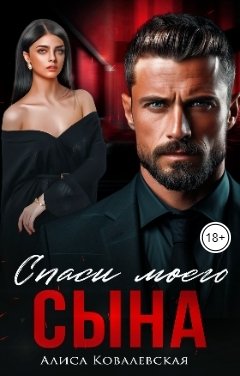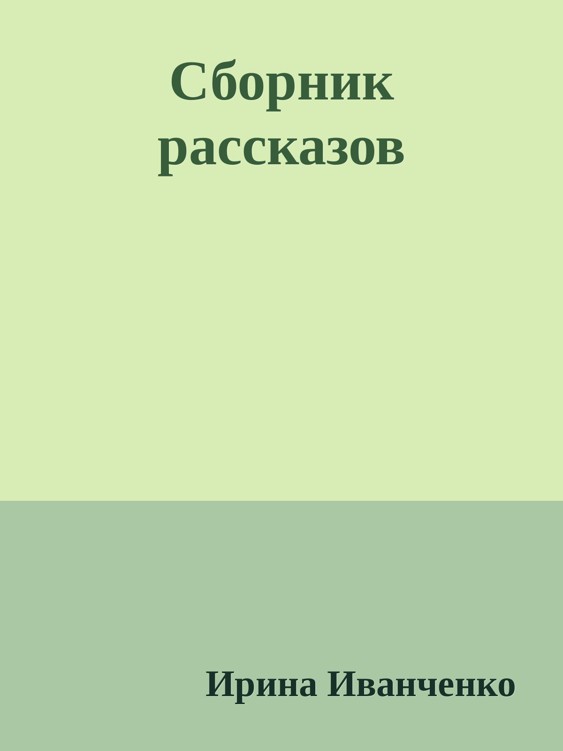решил) остаться в Испании, тем более что он вознамерился во что бы то ни стало добиться разрешения на вывоз Нагоре из страны. Мы втроем уехали в Барселону и в какой-то мере вздохнули спокойно, потому что нам уже не нужно было каждый день лицезреть убитых горем стариков.
Даже Нагоре обрадовалась. Она возвращалась домой. Как бесконечно далеко это было от правды! Это была точка невозврата.
Что такое дом, в чем он состоит? С какой поры мы становимся родителями и детьми? Когда Нагоре прислонила ко мне голову и обняла живот, который ответил ей легкими толчками, будто с той стороны кто-то пытался открыть дверь, или когда из меня вышел Даниэль, такой безжизненный, что пришлось дать ему кислород и целую неделю держать в особой палате? Что такое дом, в чем он состоит?
Из полупрозрачных стенограмм, отпечатанных на допотопной машинке в зале суда, мы узнали, что Хави убил Амару во время ссоры, которая длилась пять лет из тех двенадцати, что они состояли в браке. Мы прочитали, что в ту ночь он таскал ее за волосы, оскорблял, швырял об стену. Нам представилось, что Нагоре проснулась, затаила дыхание и так и осталась лежать, не моргая, пугаясь шороха собственных ресниц. Хави приложил Амару об стену еще раз. Она выкрикнула что-то нечленораздельное. Пока Хави избивал жену, Нагоре прислушивалась к голосам и звукам, пыталась сквозь стену распознать направление движений и определить, что так глухо падает на пол – предметы или все-таки человек. Уверена она была в одном – ее мама плачет. Потом она расскажет, что не могла решить, нужно ли звонить в полицию, и что очень хотела заплакать, но боялась: отец услышит и ей тоже достанется. Наконец Амара резко вскрикнула, и этот вскрик еще долго будет звенеть в ушах ее дочери на фоне воцарившейся на время тишины. Нагоре прижалась головой к стене так, будто хотела пройти сквозь нее. Тихо. Она чувствовала, что так резко оборвавшийся крик – это не к добру. Она задрожала. Нужно встать и пойти посмотреть, что там с мамой. На цыпочках она подошла к двери. Либо она так сказала, либо так было написано в бумагах. И вот она уже занесла руку над ручкой двери, как услышала, что отец вышел в гостиную, чтобы потом, по его собственным показаниям, пойти на кухню. Тогда она подкралась к кухне и осторожно заглянула внутрь в надежде, что темнота скроет ее от отцовских глаз, а он, как в отупении, включил воду над раковиной, прошелся туда-сюда, вернулся в гостиную и высунулся в окно. Тишина. «Что с мамой?» – спросила она, по показаниям их обоих. Хави посмотрел на нее и ничего не ответил. Повесив голову, он прижал ее к себе. Нагоре чувствовала себя в объятиях отца неловко, и Хави, осознав, что она все поняла, отпустил ее. Он вернулся в гостиную, взял телефон и позвонил в полицию. И сказал, что его жена умерла. Нагоре, услышав то, что ей и так уже было известно, почувствовала холод в животе, но не могла заставить себя пойти посмотреть. Хави заплакал, и тогда, как будто его плач был спусковым крючком для всех последующих событий, Нагоре поняла, что жизнь ее изменилась безвозвратно и подбежала к телу матери, лежащей на полу ничком, будто она спит. Нагоре не искала улик, не задавала вопросов, а просто склонилась над холодной ногой мамы и, поцеловав ее, тихонько заплакала, чтобы не разбудить покойницу своими прикосновениями, а потом стала целовать еще и еще, понимая, что видит эту ногу в последний раз. Она все понимала, но не могла произнести ужасной правды вслух. Скоро пришла полиция, Нагоре оторвали от матери и закутали в одеяло. Полицейский взял ее за руку и увел из комнаты, проведя через гостиную, где Хави сидел как ни в чем не бывало, с видом человека, намеренного если не уйти от судьбы, то хотя бы подчинить ее своей воле. Полицейский оставил Нагоре на попечение фельдшера. Тогда она обернулась и посмотрела на отца в последний раз.
Все это Нагоре пересказала в мельчайших деталях полицейскому; мы же узнали о подробностях произошедшего из бумаг. Фран держался молодцом, но выглядел так, словно вот-вот сорвется. Он лишь попросил меня по возможности ничего не рассказывать его матери – зачем ей об этом знать. Я удовлетворила его просьбу и ничего ей не сказала. Думаю, тогда я в первый раз посмотрела на Нагоре с уважением – она была такой сильной для своего возраста. Мне всегда не хватало твердости характера, даже в самые простые времена.
Иногда Фран говорил: что же это за проклятие такое – все во внешности Нагоре было от Хави, а от Амары почти ничего. И да, иногда время действительно расставляет все по местам.
Даниэль в моем набухшем животе, трущиеся друг о друга раздавшиеся бедра, влажный и душный климат Барселоны – все это заставляло меня завидовать покойной Амаре. Не только потому, что ей уже не приходилось ухаживать за собой, но еще и потому, что ее смерть в одно мгновение сделала ее святой: в ней все было прекрасно, она была таким добрым человеком, такой хорошей мамой; а я тут пыхчу и не могу ни встать, ни разогнуться, ни посмотреть на собственный лобок, ни дойти до дивана без приключений – какая из меня мать.
Возможно, Фран согласился кончить в меня, потому что какая-то его часть – головка, мошонка, яички – решила, что во мне все равно ничего не задержится. Я же была без царя в голове, юла и непоседа, поэтому, вероятно, создавала впечатление патологически бесплодной и совершенно не годной на роль матери.
Какое заблуждение – достаточно посмотреть вокруг, чтобы понять, что в жизни нет ничего проще, чем оплодотворить и оплодотвориться. Я же почему завидовала Амаре? Ей уже не нужно было отвечать ни за то, что она не ушла вовремя из супружеской спальни, ни за Нагоре, ни за Даниэля… Ее запомнят жертвой, меня – злодейкой.
Мне было так себя жаль, что я бросалась на подушку и кляла судьбу за то, что вынуждена спать в комнате без окон – руки бы этому архитектору оторвать. Жара и влажность убивали, и, когда никто не видел, я давала сдачи Даниэлю, который все время пинал меня изнутри. В этом сражении я всегда проигрывала. Нагоре шумела игрушками у окна, единственного в темной квартире, где мы проводили лето, прежде чем вернуться в Мексику; неоднократно я слышала, как она разговаривает с куклой по-каталонски, полагая, что ее никто не слышит. А Фран тем временем сражался с бюрократией, осматривая, обнюхивая