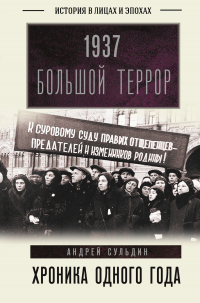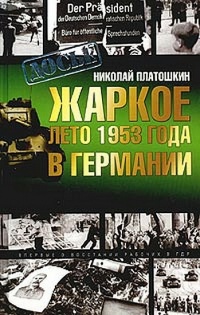же иноземец и опять посмотрел на него так же враждебно. Близкое присутствие его до такой степени неприятно влияло на Госвина, что он не остался на берегу, а вернулся в ганзейскую витту.
— Сановитый господин! — заметил иноземец одному из береговых сторожей, кивая в сторону удалявшегося Стеена.
— Ещё бы! — сказал сторож и подмигнул одному из стоявших около него рыбаков.
— Этого господина не на всяких весах и взвесить-то можно.
— А разве знаешь, кто это такой?
— Коли не ошибаюсь, должно быть, господин Госвин Стеен из Любека.
— Да! Да! — подтвердил сторож, посмеиваясь. — А мы его, по-здешнему, ещё иначе называем.
— А как?
— Зовём его сельдяным рыцарем, потому, видите ли, что он на сельдях и разбогател, и теперь такую силу забрал в руки — что́ твой барон!
— Не одною сельдью он разбогател, шурин, — вступился рыбак, — ты небось забыл, каков он в работе-то, да какова у него голова-то!..
— Так-то так, — продолжал подшучивать сторож Шрётер, — голова головой, а разбогатеть помогли ему и те золотые лисички, которые его супруга принесла с собою в приданое.
— Да разве супруга Стеена происходит из такого богатого дома? — спросил иноземец.
— Полагаю, — сухо отрезал Ганнеке. — Ведь наш-то господин взял за себя дочь богача Вульфа фон Вульфманна из Штральзунда, о котором рассказывают, что он даже и сидел не иначе, как на серебряной лавке. Мой родственник, бочар Бульмеринг, который поставляет ему бочки для погреба, рассказывал мне, что все стены в его доме увешаны драгоценными коврами. Так-то! А как он свою свадьбу праздновал, то приказал — словно король в коронованье — всю улицу от своего дома до церкви выстлать лундским сукном да музыкантов герцогских нанял и играть заставил. Одних блюд за свадебным обедом было восемьдесят! — заключил не без некоторой гордости Ганнеке.
— Господи Боже мой! — сказал сторож с глубоким вздохом. — Как подумаешь! Когда я женился на моей Дороте, так мы с ней были рады-радёшеньки, что у нас хоть селёдки-то были.
— Почём знать? Вам, может быть, ваши селёдки вкуснее казались, нежели Вульфу весь его роскошный свадебный пир. Он и при всём своём богатстве ничем не был доволен, потому что у него не хватало именно той теплоты сердечной, которой в такой высокой степени обладает наш г-н Стеен. Это, точно, такой человек, которого нельзя не уважать.
— Он, значит, не очень строг? — спросил иноземец.
— Строгонек-таки он, но зато и добр при этом, — сказал Ганнеке.
— Ведь у него, кажется, и сын есть? — продолжал расспрашивать иноземец.
— Как же! Г-н Реймар — и тоже славный господин.
— Тот, верно, теперь заведует делами отца в Любеке?
— Нет, он нынче живёт в Визби, потому...
— А почему бы это?
— Ах! — с досадою сказал Ганнеке, почёсывая за ухом. — Вышла тут одна история... Я, право, и сам не знаю, как это случилось... Мало ли там что злые языки болтают...
— А скажите, пожалуйста, могу ли я сегодня ещё переговорить с г-ном Госвином Стееном? — спросил иноземец после некоторого молчания.
— О, да, я полагаю, — сказал Ганнеке. — Сельдяные суда уже нагружены. Не хотите ли, чтобы я свёл вас в нашу витту?
Иноземец охотно согласился на это предложение и направился вслед за старым рыбаком.
Ганзейские купцы бывали замечательно невзыскательны в своих житейских потребностях. В этом можно было убедиться и по убранству той маленькой комнатки, в которой жил Госвин Стеен на любекской витте. Жёсткая койка, стул да рабочий стол составляли всю мебель в комнатке. Хозяин был занят вычислением прибылей, которые должен был ему принести улов сельдей за нынешний год, когда его занятия были прерваны приходом Ганнеке и другого, не известного ему лица, в котором Госвин тотчас признал странного незнакомца. Несмотря на то что лицо незнакомца теперь не носило на себе ни малейшего признака враждебности, Госвин всё же почувствовал в душе своей при входе его нечто вроде внутреннего трепета или замирания сердца.
— Что вам угодно? — спросил его Стеен очень неприветливо.
— Извините, г-н Стеен, — вступился Ганнеке, — этот господин желает с вами переговорить, так вот я его сюда и привёл, потому, как вы знаете, никакой иноземец не имеет права входа в наши витты.
— Чего же вам от меня нужно? — переспросил Стеен тем же сухим тоном у незнакомца.
— Мне нужно бы с вами сладить небольшое дельце, — очень вкрадчиво заговорил незнакомец.
Госвин Стеен пристально посмотрел на него и после некоторого молчания сказал:
— Должно быть, я уже встречал вас где-нибудь прежде?
— Легко может быть. Быть может, вы находились в числе членов того общего собрания любекской думы, в которое я вносил свою просьбу об изменении произнесённого против меня тяжкого приговора.
— А! Теперь признаю вас, — воскликнул Стеен. — Вы тот самый датчанин, которого мы исключили из Ганзейского союза.
— Родом я действительно датчанин, — отвечал Кнут Торсен, — однако же я в Визби приобрёл права немецкого гражданства. Иначе я бы не мог попасть в состав Ганзейского союза.
— Не затем ли вы пришли сюда, чтобы вновь повторить вашу просьбу? — спросил Стеен, на которого по-прежнему присутствие датчанина действовало чрезвычайно неприятно. — В таком случае знайте заранее, что я тут ничего не могу сделать.
— Само собою разумеется. Так всегда и отвечают в подобных случаях.
Стеен быстро глянул на говорившего и добавил:
— Да если бы я даже и мог что-нибудь сделать, то и тогда бы не сделал, потому что ваш проступок принадлежит к числу наиболее важных. Нарушение доверия между нами, ганзейцами, наказуется очень строго...
— Ну, положим, что не для всех бывают наказания равны! — заметил Торсен, злобно и лукаво искривив губы в подобие улыбки.
— Что вы этим хотите сказать? — резко спросил Стеен.
— А то и хочу сказать, что иному и нарушение доверия легко сходит с рук, потому что его судьям глаза червонцами прикрывают.
Оба собеседника взглянули друг на друга взглядом смертельной ненависти: оба отлично понимали тайный смысл произнесённых слов; и Стеен теперь стал догадываться, зачем именно к нему Кнут Торсен пожаловал.
— Ну, что же далее? Говорите! — почти повелительно обратился он к датчанину.
Торсен указал на стоявшего у входа Ганнеке и, пожав плечами, отвечал: