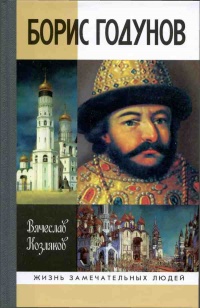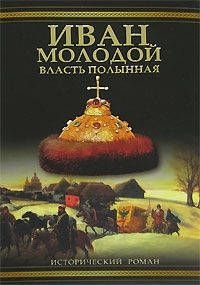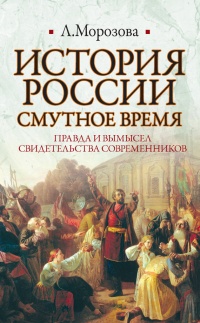неисчерпаемо, — наконец сказал он. — Слово короля остановит заблуждающихся.
Сигизмунд прошагал мимо длинного стола, за которым сидел нунций. Едва слышно брякавшие огромные звездчатые шпоры на его тупоносых шведских ботфортах неожиданно обрели голос и зазвучали заметнее. Он прошёлся в другой раз, и хотя лицо его было ещё опущено и опасно темнели под глазами тени, но шпоры уже гремели вовсю.
Рангони удовлетворённо улыбнулся.
Гришку Отрепьева одевали для выхода к острожскому люду. Да не Гришку Отрепьева, беглого монаха, одевали, но царевича Дмитрия.
— То очень важно, — с затаённой тревогой сказал воевода Юрий Мнишек. — В Московии при выходе государя соблюдается древний чин византийских императоров. Народ тому навычен… Царь для люда московского — живой бог!
Он воздел палец кверху, хотел улыбнуться, но губы не складывались в улыбку, и видно было, что воевода возбуждён, всё дрожит в нём — и хочет он скрыть это, да не может.
На грубом еловом столе, стоящем посреди палаты, лежали золочёный шлем невоенного вида с яркими перьями, которые только подчёркивали непригодность сего головного убора для боя, красные кожаные перчатки с широкими раструбами и ещё какие-то вовсе не российские предметы, которые были бы нелепы не только на царевиче, но и на любом русском человеке. Однако Мнишек сам выбрал эти вещи, дабы украсить, утвердить, как ему представлялось, Григория Отрепьева в его подставе царевича Дмитрия. Облачившись в эти одежды, думалось воеводе, Григорий Отрепьев предстанет перед российским людом таким, каким и хотели бы видеть истинного наследника российского престола.
Царевичу подали соболью шубу. Мех шёлково тек в руках, светился медовым цветом. В палате светлее стало, как развернули её. Но Юрию Мнишеку одной шубы на царевиче показалось недостаточным для полной пышности. Криков ликующих ожидал он от люда острожского, перед которым должен был предстать царевич. Радости, переполняющей сердца. Трепета жаждал, ибо знал, что с древнейших времён и у всех народов стоящие на вершине власти всеми силами добивались ликования, радости и трепета у народов своих, объявляясь перед ними, и оттого выходы обставлялись обдуманно, намеренно, обсуждено многажды. Ликование, радость и трепет людской — бурливое, пьяное вино — затмевали беды и несчастья, и под крики восторга не думали люди о несправедливости, о пустом желудке, рвани на плечах, о болезнях и обидах. В головы ударял обманный хмель надежды, и стоящий над ними казался избавителем от страшного, что окружало их, и они готовы были идти в любую даль, в которую бы он ни позвал.
Юрий Мнишек отступил чуть в сторону — воображением он был не обделён — и мысленно одел на мнимого Дмитрия бармы, шапку Мономаха, дал в руки скипетр и державу. Шапка Мономаха, скипетр и держава мечтой горели в его голове. Не раз представлялось: вот царь всея Руси и он, всесильный воевода, рядом. Поляк лукавый вперёд подался, вглядываясь в мнимого царевича, и показалось ему и впрямь: на голове Гришки Отрепьева шапка тёмного соболя и золото блестит в руках. И так стало воеводе не по себе от видения этого, что сердце — не то от страха, не то от странной, отчаянной радости.
Он прикрыл глаза ладонью.
— Езус и Мария, — прошептали лиловатые губы много пожившего человека, — помогите, наставьте…
Мысли мнимого царевича в эти минуты были о другом. Он послушно поворачивался, уступая рукам услужающих, но не думал о том, что надевают на него, а даже не замечал этого.
За окнами дома раздавались голоса, слышалось конское ржание, скрипы телег, шаги многих людей — тот сложный, состоящий из многих нот гул, который возникает при большом скоплении народа. Юрий Мнишек повелел собрать весь монастыревский люд да ещё приказал привести и казаков, и шляхту. Отрепьев вслушивался в нарастающие голоса людей и хотел угадать их настроение. Но при всём напряжении не мог выделить из множества звуков слова, которые бы свидетельствовали о радости или, напротив, возмущении собиравшихся у дома толп. И Отрепьев всё вслушивался, вслушивался, хмурил лицо. И казалось, что он улавливает то злобные возгласы, то крики восторга.
Страх сковывал мнимого царевича.
Он принимал поздравления многих польских панов знатных, и они кланялись ему; юбки Марины Мнишек вертелись перед ним; он выдерживал упорный, испытывающий, ничего доброго не обещающий взгляд нунция Рангони; король Сигизмунд благословлял его, и он выходил на широкий подъём краковского дворца Юрия Мнишека перед ватагами казаков, бросавших кверху шапки и клявшихся вернуть ему отчий престол. Но всё это было иное, нежели то, что ждало через минуты, когда он должен был предстать перед людом первой захваченной российской крепостцы. Здесь, и именно здесь, а не там, в Самборе и Кракове, должно было определиться, какой будет его дорога по российской земле. Здесь… Оттого-то страх сковывал мнимого царевича. И злобные возгласы, которые, казалось ему, он слышал за стенами дома, подстёгивал как раз этот обжигающий страх, а крики ликования — необозримое, жадное, преступное тщеславие, вторгнутое в его душу злой волей неведомых ему людей.
В неясном гуле за стенами дома, однако, не было ни злобы, ни ликования, как он это понимал. В голосе толпы были свои краски, но Отрепьев их не распознавал. Это московскому родовому боярину было по силам, но не ему — монаху. На Москве голоса различали. Бывало, говорили: «Голос у народа — ал!» И ворота в Кремль затворяли, боясь беды. Известно верхним было: от такого голоса до боя, когда головы с плеч полетят, — шаг всего. И стрельцы на стены вставали, надвинув шапки на брови. К большому колоколу на Иване Великом крепили верёвку, дабы медным голосом колокола одних призвать на помощь, других напугать. Ведали голоса на Москве. Говорили и малиновый звон и зелёный шум… Да, на Москве многое ведали.
Голоса и звуки движения многолюдных собраний, сливаясь в мощный поток, всегда выражают настроение большинства составляющих их людей. В случае с толпами у воеводского дома слияния такого, которое было родило единый поток, не было. Голоса казаков говорили одно, шляхты — выражали другое, разнородного люда монастыревского — третье. В гуле, порождаемом казачьими отрядами, проступали ноты буйно, пьяно, разгульно проведённой ночи. В менее заметных голосах шляхты звучали не радость первой победы и казачье ликование гулянкой по этому поводу, но настороженное ожидание того, что последует завтра. Голоса монастыревского люда были и вовсе неопределённы. Здесь раздавались жалобы на разграбивших их дворы; стоны побитых пьяными казаками; разочарование в разгоревшейся было мечте обрести справедливого, доброго, всепрощающего царевича; и лишь едва-едва пробивалась надежда на счастливое разрешение случившегося. А всё вместе это звучало как не сладившийся оркестр, который не то сыграет ожидаемую песню, не то вовсе рассыплет звуки