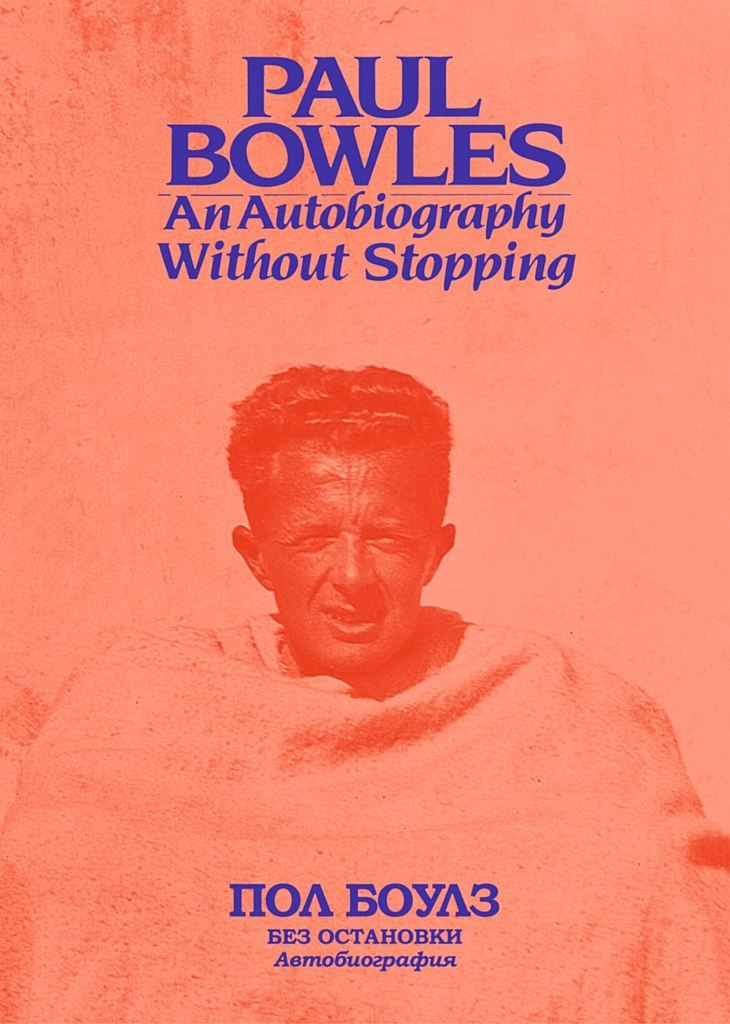Сикстинскую мадонну — она осталась такой же невероятно прекрасной, какой ее сохранила моя память. Но до чего изменилась моя жизнь с той поры, когда Петроний впервые привел меня к ней. Тогда я была женщиной, кого переполняла любовь, а с тех пор я научилась лишь выживать, не испытывая ни страсти, ни разочарования, которое, казалось, всегда наступает следом за страстью. Что ж, постепенно я пришла в себя, успокоилась и снова могла спать.
Из Дрездена я собиралась отправиться на автомобиле в Швейцарию, чтобы возобновить удостоверение для проезда моей «Изотты» через таможню[346] (этот международный документ позволял беспрепятственно пересекать на автомобиле границы стран Европы). Я заночевала в гостинице в Байройте, где проходили грандиозные музыкальные фестивали с показом опер Вагнера. Вскоре после полуночи я ощутила сильнейшие боли в животе, а ведь совсем недавно, буквально пару дней назад, получила в Дрездене справку об отсутствии каких-либо заболеваний, поэтому даже представить себе не могла, что же могло вызвать такой приступ. Пришлось срочно вызвать врача, и он настоял, чтобы я немедленно отправилась в Берлин, поскольку только там можно было получить надлежащее лечение. Вызванная им машина скорой помощи, промчав по автобану, через несколько часов привезла меня в столичную частную клинику. Там сразу же поставили диагноз — брюшной тиф — и мгновенно поместили в изолятор, на карантин.
Как только стало известно, что меня держат взаперти в больнице, появился нелепый слух, что туда меня отправила фрау Винифред Вагнер[347], которая была влюблена в Гитлера, а потому страшно возненавидела меня за те знаки внимания, какие он якобы оказывал мне… Истинная причина моей болезни прояснилась несколько позже. Оказывается, случилась небольшая эпидемия брюшного тифа у тех, кому в дрезденской лечебнице назначали молочную диету. В то время пастеризация еще не была обязательной процедурой, вот нам и досталось молоко от зараженной коровы.
Пока я находилась в берлинской клинике, произошел аншлюс[348], и гитлеровские войска вошли в Австрию, однако ведущие мировые державы даже шепотом не выразили протеста против этого. Всех нас снедал страх, что может начаться новая мировая война, потому что уже были призваны резервисты, а из клиники, где я лежала, мобилизовали почти всех врачей. Пациентов лечили теперь лишь несколько пожилых медиков и кое-какие интерны, причем все они были настолько перегружены, что просто не имели физической возможности следить за состоянием каждого больного даже в самых тяжелых случаях.
Меня обихаживал молодой студент, будущий врач. Он казался мне внимательным, деликатным, предупредительным. Однажды я спросила его:
— Почему Гитлер способен добиваться у молодежи такого рабского послушания и преданности?
Его глаза тут же сверкнули, являя фанатичный идеализм, и он с воодушевлением в голосе заявил:
— На него достаточно лишь взглянуть… достаточно услышать его голос… и уже возникает желание умереть за него!
Я была полна сочувствия и жалости к людям старшего поколения. Они оказались обреченными, попав в ситуацию, на которую никак не могли повлиять. Они смогли выжить в годы прошедшей войны, пережили страдания, связанные с ее последствиями, а теперь столкнулись лицом к лицу с будущим, испытывая страх, что могут повториться старые ужасные времена. Их лишили законных прав молодые люди, исполненные диких, романтических представлений, и вот теперь этой молодежи принадлежала вся Германия, причем она с нетерпением, с огромным энтузиазмом стремилась отдать свою жизнь во славу своего фюрера…
По прошествии нескольких недель меня выписали из больницы, и я тут же отправилась в дом, который сняла близ Ванзее. Съемки нового фильма должны были начаться незамедлительно, поэтому не могло быть и речи, чтобы провести отпуск на Ривьере.
Однажды утром мне понадобилось съездить в Берлин, чтобы пройтись по магазинам, но когда я увидела, что там творится, мое сердце практически замерло от ужаса, перестало биться. Весь центр города, казалось, был охвачен пожаром. На облаках были отсветы жаркого, ярко-алого огня, бушевавшего где-то в кварталах близ Унтер-ден-Линден, оглушающе ревели пожарные машины. Транспорт застыл в пробках, автомобили направляли по другим маршрутам, вокруг этой части города и тех улиц, что были запружены добровольными пожарными. Несколько минут выли сирены воздушной тревоги, и я мельком углядела часть самолета, который упал на одну из улиц в закрытой сейчас к проезду зоне. Я подозвала полицейского, спросила его, что происходит, однако он ничего не ответил, а лишь печально покачал головой и отправился куда-то исполнять свои обязанности. Между тем вокруг царила паника. От одного автомобиля к другому мгновенно разлетелись самые разные слухи, огромная пробка неподвижных машин запрудила все от площади Потсдамер-плац до самого начала Курфюрстендамм. Казалось, что вражеская авиация бомбила город с раннего утра и, сбросив зажигательные бомбы, устроила пожары в сердце столицы. Все со страхом вглядывались в небо, но, как ни странно, там не было иных самолетов, кроме немецких. Получалось, что началась необъявленная война, но никто не знал, с кем именно.
Наконец, через несколько часов объявили, что это были учения, устроенные для проверки эффективности действий противопожарной городской службы в условиях вражеского налета. Пожары были искусственные, а самолет оказался макетом. Все же это объявление ничуть не успокоило мои страхи. Я молилась в надежде, что войну можно предотвратить, но я слишком хорошо знала законы театра, чтобы не понимать: когда проводят подобные обширные учения, своего рода генеральную репетицию, это означает, что не за горами и премьера спектакля…
В такой напряженной обстановке я начала сниматься в новом кинофильме, который имел пророческое название «Ночь принятия решения», режиссером вновь стал Нунцио Маласомма. Когда мы отсняли примерно половину картины, возник «судетский вопрос»[349]. Опять была объявлена всеобщая мобилизация. Всем работникам киностудии, а это и постановщики, и механики, и кинооператоры, и редакторы, и электрики, надлежало незамедлительно прийти в сборные пункты, чтобы отправиться исполнять свой воинский долг, а на замену им набрали каких-то неадекватных, необученных, немолодых работников. Нам еще повезло, что главную роль исполнял известный югославский актер Иван Пéтрович[350]. Он не был гражданином Германии, поэтому не был военнообязанным, и только благодаря этому обстоятельству мы смогли вообще закончить съемки.
Движение на улицах и дорогах теперь было не для гражданского населения: то и дело проезжали грузовики с солдатами и военным снаряжением, маршировали пехотинцы, грохотали танки. Мы ложились спать ночью и просыпались ранним утром под нескончаемые звуки солдатских песен, звучавших из громкоговорителей, которые были установлены на каждой улице.
Я не осмеливалась даже заикнуться о своем неистребимом желании уехать из страны, поскольку опасалась, что власти найдут способ не выпустить меня, так как я все еще была