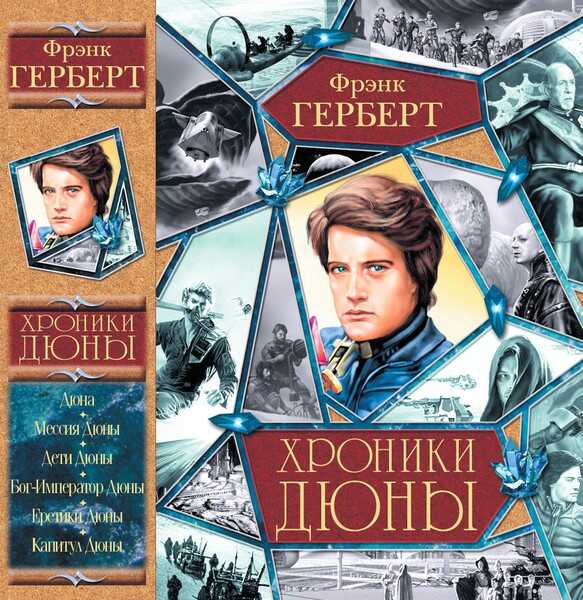и какое-то время размышлял исключительно о том, как будет извиняться перед Шетри за то, что вконец запугал и так впавшего в панику отца, уже потерявшего двоих сыновей.
Однако роды продолжались и продолжались. В итоге ее в основном мучила жажда, и он попытался помочь ей пить, однако Хэ’энала уже не могла глотать. Он выскочил из каменного домика, чтобы попросить льда, однако небольшой ледник между двумя вершинами располагался все же слишком далеко. Джон сбегал к катеру, достал из своей упаковки самую мягкую и старую рубашку; свернул угол ее в жгут и передал Эмилио, подавшего ткань Хэ’энале. Она стала сосать из ткани воду, и ее перестало тошнить, так что какое-то время Эмилио только обмакивал ткань в воду и подавал ей, пока она не утолила жажду.
– Этой нравится звук твоего голоса, – не открывая глаза, произнесла Хэ’энала. – Поговори со мной.
– О чем?
– О чем-то незнакомом. О твоем доме. О людях, которых ты оставил дома.
И он рассказал ей о Джине и Селестине, после чего оба немного помолчали, сперва представляя себе шаловливых девиц, потом ожидая, пока пройдет очередная схватка.
– Селестина. Красивое имя, – сказала Хэ’энала, когда боль отступила. – Музыкальное.
– Это имя означает нечто небесное, но этим словом именуется также музыкальный инструмент, составленный из звонких и певучих серебряных колокольчиков, – сказал он. – Сипаж, Хэ’энала, как мы назовем этого ребенка?
– Это пусть скажет Шетри. Расскажи о Софии, какой она была молодой.
Когда он замялся, она открыла глаза и сказала:
– Нет, тогда… о трудном не говори! Только о легком, пока не случилось трудное. Что ты любил ребенком?
Ему не хотелось своим рассказом выставить в плохом свете себя и Софию, однако постепенно обнаружил, что описывает Ла Перлу и приятелей своего детства, погружаясь в прежние страсти, страстишки и простые красоты: ощущение мяча в заношенной перчатке, крученую дугу до второй базы. Она поняла очень немногое, однако наслаждение движением ей было знакомо, о чем она и сообщила ему, задыхаясь, короткими фразами.
Он помог ей напиться.
– А теперь расскажи о музыке, – произнесла Хэ’энала, когда сумела это сделать. – Может быть, твой Нико споет?
И, устроившись в луче света, Нико спел: сначала арии, потом неаполитанские любовные песни, религиозные гимны, выученные в сиротском доме.
Умиротворенная, не испытывавшая более жажды, Хэ’энала еще раз сказала:
– Отведите детей к моей матери, – после чего уснула.
Нико продолжал петь.
Придремал и утомленный Эмилио, проснувшийся под звуки песни, показавшейся ему самой прекрасной среди всех, которые он слышал. Немецкая, решил он, хотя знакомыми ему показались только несколько слов. Не важно, понял он, потрясенный и тихий.
Очаровывала мелодия – чистая и ясная, воспаряющая к небу, словно душа, повинующаяся некоему сокровенному закону…
Все вокруг них внимали, слушали и ВаН’Жарри, дети прижимались к родителям, все понимали, что исход близок. Открыв глаза, Эмилио Сандос увидел последний вздох, откинул одеяла, осмотрел живот, заметил слабое движение и подумал: жив, еще жив. Нико, глядя на него круглыми глазами, подал нож.
И словно откуда-то издали Сандос увидел, как быстро и решительно режут его бесчувственные руки. Часами он боялся этого мгновения, опасаясь, что будет действовать нерешительно или нанесет слишком глубокую рану. Но сейчас его словно осенило безмолвное милосердие. Ощущая себя очищенным от всех прочих дел, он, словно слой за слоем, вскрывал это тело, раскрывавшееся, расцветавшее под его ножом, как красная роза на рассвете, осыпанная капельками росы.
– Вот, – произнес он, наконец вскрывая околоплодный пузырь. – Нико, доставай ребенка.
Рослый неаполитанец повиновался, смуглое лицо его заметно побледнело даже внутри хижины от жуткого хлюпающего звука, с которым он вынул младенца из тела матери. И замер, держа толстыми пальцами хрупкое тело ребенка, как стеклянную вазу.
Стоявший у двери Джон готов был принять младенца, омыть и отнести отцу, однако, увидев неподвижное, покрытое влажной шерсткой тельце, еще курившееся материнским теплом, глянул на небеса и возопил:
– Опять мертвый!
Нико залился слезами, ВаН’Жарри горестно застонали, и все расступились, открывая дорогу Сандосу, который, как безумец, бросился вон из дома, шепча под нос отрицание и возмущение по конкретному адресу:
– Нет, Бог, нет. Только не в этот раз.
Выхватив ребенка у Нико, он опустился на землю, положив дитя на предплечья и колени, держа крошечное тело так близко, что ощутил исходящее от ребенка тепло. Ртом своим он отсосал слизистую мембрану от ноздрей и сплюнул, разъяренный и решительный. Поддерживая влажную головку одной увечной рукой, закрыв другой маленькое рыльце, он вновь вдохнул воздух в рот ребенка: вдохнул осторожно и подождал, еще раз вдохнул осторожно и подождал, и так снова и снова. Наконец он ощутил чужие руки на своих плечах, вывернулся из их хватки и снова занялся делом, пока наконец Джон уже более грубо оторвал его от тельца и проговорил полным слез голосом:
– Остановись, Эмилио! Теперь уже все!
Побежденный, стоя на коленях, он испустил в небо полный отчаяния вопль. И только когда к вырвавшемуся из его груди крику присоединился тонкий голосок… только тогда он понял.
Писк младенца затерялся во взрыве общего удивления и ликования. Ласковые руки руна забрали у него кроху, и Эмилио оставалось только провожать процесс взглядом… как его обмывали, вытирали, пеленали, пеленали снова и снова обматывали домотканой материей и передавали из одних заботливых объятий в другие. Израсходовав весь запас своих сил, он, в окровавленной одежде, осел на том месте, на котором стоял, и долго оставался там, не пытаясь даже пошевелиться. Наконец Эмилио заставил себя подняться на ноги и, пошатнувшись, принялся искать взглядом Шетри Лаакса, опасаясь того, что несчастный отец будет оплакивать жену и проклинать ребенка. Но Шетри уже прижимал малыша к себе, не отрывая от него глаз, забыв обо всем прочем, кроме сына, которого осторожно покачивал, чтобы успокоить.
Отвернувшись, Эмилио Сандос нырнул обратно под каменную крышу хижины, где его ожидал остывающий труп женщины, как и он сам позабытой в общем веселье. «Мы сжигаем своих мертвецов», – сказал ему Рукуей. Когда же это было? Два дня назад? Или три? Так что папа оказался прав, пронеслась в оцепенелом мозгу Эмилио мысль. Копать могилу ему не придется.
При полном отсутствии всяких эмоций он опустился рядом с тем, что только что было Хэ’эналой. Если что и может подтвердить факт существования души, подумал Сандос, так это полная пустота лишившегося ее трупа.
Тут, непрошеный и нежданный, его осенил покой – пробужденный музыкой и смертью и не знающей тени любовью, которую можно почувствовать только при рождении.
Снова ощутил он волну прилива, но на сей раз сопротивлялся