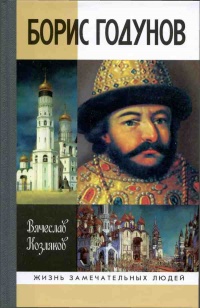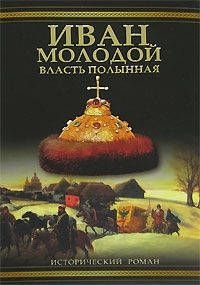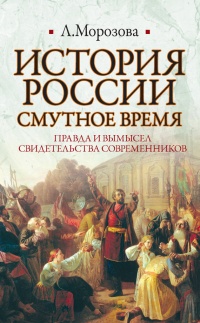прозрачными, до странного неподвижными глазами. И этот взгляд, словно упёршаяся в грудь рука, разом остановил десятника и охладил его гнев. Стрелец перевёл сбившееся вдруг дыхание и неуклюже, тесня плечами Власьева, подался назад из кареты.
— Так, — сказал с невольно выказываемым удивлением, — ну-ну, медиум…
Перед стрельцом всё ещё стояло тёмное лицо и на нём два неподвижных глаза, как провалы в неведомое. Власьев уже без крика пояснил:
— Велено доставить в царские покои. Поднимите решётку.
Колом торчавшая борода его легла на грудь. На губах обозначилась улыбка. Успокоился думный.
Десятник отступил от кареты. Воротная решётка с режущим слух скрипом медленно поползла кверху. Карета вкатилась под своды башни. Стрелецкий десятник, являя всем видом озабоченность и недоумение, смотрел и смотрел ей вслед. Да, ныне на Москве фигура эта — недоумения и озабоченности, — почитай, свойственна была не только десятнику, стоявшему со стрелецким нарядом у кремлёвских ворот, но и многим иным выше его. Разговоры в эти дни были разные, а ещё больше было молчания, которое красноречивее слов. Так-то двое, поглядев друг на друга, покашляют в кулаки, и непокой, тревога, неуютность сильнее прежнего войдут в души обоих. В глазах, в дышащих вопросом зрачках одно: «О чём говорить? Ан не видишь, сам враскорячку…» И в другой раз мужики покашляют: «Кхе, кхе…»
Причины волнениям тем были. Ох были…
Стрелецкий десятник поправил кушак, крикнул на верх башни, чтобы опустили за каретой решётку. Увидев, как блеснули, выходя из-за карниза, кованые её острия, сопнул носом, собрал ноги, расставленные циркулем, и, положив руку на бороду, отступил с проезжей дороги в тень стены. В глазах было прежнее недоумение.
Думный дьяк Афанасий Власьев, небывало сорвавшись у кремлёвских ворот на крик, сейчас молчал и только плотнее сжимал и без того узкие, почитай, и вовсе не существующие на лице, бесцветные губы. Карета, миновав въездную площадь, уже катила мимо подворья Симонова монастыря, хрустя по жёлтому с ракушечником песку, которым со времени царствования Фёдора Иоанновича засыпали кремлёвские улицы, дабы, как сказано было в царском указе, «приветчиво глазу сталось». Однако дьяку в сей миг было не до лепоты кремлёвских улиц, хотя они и вправду бодрили и радовали глаз.
Две недели назад Афанасия Власьева вызвали в верхние палаты. Он поспешил на зов, соображая, на что вдруг потребовался. В царских палатах дьяк был не в первый раз. Многажды и до того призывали его наверх. Такая у него была служба — Посольский приказ. А этот приказ других царю ближе. Власьев вошёл и склонился в поклоне, но ещё до того, как глаза опустил, успел оглядеть царёвы палаты. Взгляд охватил и оставил в памяти сидящего, опершись на руку, царя Бориса; горящие свечи в тяжёлых подсвечниках; привычно стоящего по левую руку царёва кресла боярина Семёна Никитича; ковёр с необыкновенно вытканными по алому полю зелёными травами. И память подтвердила: всё, как и прежде, — но въедливое сознание, неведомым образом перебрав знакомые приметы, вдруг подсказало: «Ан не всё по-прежнему. Есть и иное». И вроде бы даже явственный голос шепнул на ухо посольскому: «Есть, есть иное». Но Афанасий Власьев головы не поднял: научен был не являть любопытство, где не должно.
Мягкие сапожки царя с изукрашенными передками и точёными каблуками тонули в высоком ворсе ковра. Дьяк приметил: носок одного сапожка приподнимается и пристукивает неслышно. Власьев молчал, склонив голову. Ждал. У дьяка — а ждать приучен был и умел — в груди нехорошо стало, словно в предчувствии недоброго.
Царь, промедлив много больше обычного, сказал:
— Слухом пользуюсь что в Риге объявился медиум, который по расположению небесных тел и иным приметам чудесным образом угадывает будущее.
Афанасий Власьев, ловя царёвы слова, не отводил глаз от неслышно пристукивающего носка затейливо изукрашенного сапожка. А мысли дьяка, будто стремительная вода, натолкнувшаяся на камень, бугрились, вскипали, ударялись в одно, всё в одно и то же: что иное, отличное от прежнего, явилось в царёвых покоях? Многодумен был Афанасий Власьев и опытен — вперёд заглядывал.
— Так вот, — сказал царь Борис, — повелеваю, отложив дела, немедленно отправиться тебе в Ригу и медиума того, не мешкая, в Москву доставить.
И тут камень, преграждавший течение мыслей дьяка, рухнул. «Какие слухи? — подумал он. — Какие гадания? Да точно ли я разобрал слова царские?»
Но царь Борис повторил, уже с раздражением:
— Часа не медли! Спешно, в Ригу…
Перед Афанасием Власьевым словно бы окно растворилось, и он увидел то, что и минуту назад не мог разглядеть.
По службе в Посольском приказе, как немногие иные на Москве, Афанасий Власьев знал, что ныне на южных рубежах державных стоит войско мнимого царевича Дмитрия. Знал, сколько сил накоплено Григорием Отрепьевым, кто дал на войско золото самозванцу, и больше того ведомы были дьяку сроки, намеченные мнимым царевичем для перехода российских рубежей. Да и не только это знал Афанасий Власьев. Многажды бывал дьяк с посольскими делами в землях Речи Посполитой, бывал и на южных украйнах российских и видел, и думал не раз, что здесь только искре упасть — и поднимется весь край в дыму и огне смуты. Годами на южных пределах российских скапливался воровской, беглый, шатающийся меж дворов люд, и было племя то — дикое, неуёмное, не верящее ни в бога ни в чёрта, — как сухой хворост, что, вспыхнув, займётся неудержимым палом. О таком страшно было и мыслить.
И вот теперь к опасной черте южных российских пределов поднесли пылающий фитиль. «В Ригу», «слух», «медиум», «не мешкая»… Слова эти, словно подхваченные эхом, дважды и трижды прозвучали в сознании Афанасия Власьева. «До слухов ли ныне, — подумал дьяк, — до гаданий ли?» И тут только окончательно понял, что всколыхнуло и обеспокоило его сознание, когда он вступил в царские палаты. Да, всё было по-прежнему: и царь в кресле, и дядька его Семён Никитич подле царёва места, и древние, по преданию, вывезенные из Царьграда, кованные из серебра подсвечники, — ан было и иное. И это иное разгадал и приметил вёрткий, пытливый, изощрённый мозг посольского. Вот и глаз он не поднял, а увидел: может, и невидимая прочим, но объявившаяся дьяку легла на всё, что было здесь, и даже пропитала самый воздух тревога, ожидание опасного и боязнь его. И носок царского сапожка, плясавший на высоком ворсе ковра, и голос царя с неожиданно явившимися трепетными нотками, и настороженные, с прищуром всматривающиеся глаза царёва дядьки выказывали — здесь ждут, и ждут с опаской, следующей минуты, да ещё и не знают, что принесёт будущая эта минута.
Афанасий Власьев поклонился и вышел. Спускаясь по ступеням дворца и шагая через